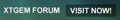

Исследование реальных потерь Советского Союза в войне началось лишь в конце 1980-х с приходом гласности. До этого в 1946 году Сталин объявил о том, что СССР потерял в годы войны 7 миллионов человек. При Хрущеве цифра возросла до "более 20 миллионов". Споры о количестве жертв продолжаются и по сей день. Корреспондент "Недели" Андрей Коц спросил у экспертов по военной истории, кому выгодна версия о том, что мы "завалили фашистов трупами", и получил неожиданные ответы. Напомним, что в 1988-1993 годах коллектив военных историков под руководством Григория Кривошеева провел комплексное статистическое исследование архивных документов. Итоговая цифра людских потерь в Великой Отечественной войне была впервые обнародована в округленном виде ("почти 27 млн чел.") на заседании Верховного Совета СССР 8 мая 1990 года, посвященном 45-летию Победы нашей страны в Великой Отечественной войне. На сегодняшний день результаты, полученные группой Кривошеева, признаны официальными и наиболее надежными. Однако нередко они подвергаются критике в силу того, что данный коллектив фактически получил монополию на доступ к рассекреченным документам по потерям: подтвердить либо опровергнуть их результаты другие историки не могут, поскольку соответствующие документы им недоступны. Версия академическая Геннадий Осипов, академик РАН: - На первые шесть с небольшим месяцев войны приходится 27,8% общего числа погибших за войну. Германская армия в начале войны была объективно сильнее. Нельзя также забывать, что кроме вермахта и войск СС в войну против СССР сразу же включились 29 дивизий и 16 бригад союзников Германии: Финляндии, Венгрии и Румынии. 22 июня их солдаты составляли 20% армии вторжения. Затем к ним примкнули итальянцы и словаки, и к концу июля 1941 года войска сателлитов Германии насчитывали около 30% сил вторжения. Красная Армия, лишь недавно переформированная на современной основе и только начавшая получать и осваивать современное вооружение, имела перед собой мощного противника совершенно нового типа, какого не было ни в Первой мировой, ни в Гражданской войнах, ни даже в финской войне. Однако, как показали события, Красная Армия обладала исключительно высокой способностью к обучению. Военная стратегия и тактика высшего командования и офицеров были творческими и обладали высоким системным качеством. Поэтому на заключительном этапе войны потери германской армии были в 1,4 раза больше, чем советских Вооруженных Сил. Версия конспирологическая Александр Осокин, писатель, публицист: - В принципе я склонен верить цифрам, опубликованным в докладе Кривошеева. Погибших было не меньше 8 миллионов. А возможно, и больше. Но о том, что нем-цев "задавили толпой", тоже говорить не буду. Это не моя епархия, я изучал по большей части первый этап войны, о чем и написал книгу "Великая тайна Великой Отечественной. Новая гипотеза начала войны". В ней я постарался объяснить, почему наши потери в 1941 году были такими огромными. Вдумайтесь, до конца года в плен попало от 3,5 до 3,8 миллиона советских военнослужащих! А погибших сколько было... Причина потерь - наша армия была просто не готова к обороне. Это не значит, что советские солдаты не умели воевать. Суть моей гипотезы состоит в том, что Гитлер, понимая, что в одиночку Германии Англию не одолеть, предложил Сталину участвовать в войне против Британской империи. Берлинские переговоры в ноябре 1940 года, якобы закончившиеся ничем, на самом деле завершились тайным соглашением между советским и германским руководством о проведении этой операции. С этого момента главной для Сталина стала идея вывести с помощью немцев свои армии на берег Северного моря, а потом решить, куда ударить: по Лондону - вместе с немцами или по Берлину - вместе с англичанами. То есть советские войска на западной границе готовились не к обороне, а к транспортировке. Этим и объясняется тот факт, что во многих частях не было боеприпасов, танки стояли с пустыми баками. Версия патриотическая Леонид Ивашов, президент Академии геополитических проблем: - Миф о том, что мы потеряли в несколько раз больше солдат, чем Германия и ее союзники в годы Великой Отечественной, необычайно живуч. Однако легко опровергается серьезными историками. Я склонен доверять данным, изданным в 1993 году группой исследователей под руководством Кривошеева. Согласно им, военные потери сторон примерно равны. Другое дело, что зачастую их сознательно или по невежеству путают с общими потерями, которые, конечно, у нас были существенно выше. Гитлеровцы расстреливали направо и налево и военнопленных, и мирное население, жгли деревни, города. Красная Армия в этом плане была несоизмеримо гуманнее. Военные же потери, повторюсь, были примерно равны. Красная Армия училась воевать и воевала очень эффективно. Миф о "завале немцев трупами" нужен прежде всего нашим недобросовестным либералам. Естественно, эти мифы подхватывают и наши бывшие союзники. Им это выгодно, такая ложь позволяет руководству этих стран объяснить населению, почему все-таки они вышли из состава СССР и "влились" в Запад. Эта ложь зачастую сопрягается с восхвалением тех, кто воевал на стороне Гитлера. "Холодная война" сегодня все еще продолжается, просто видоизменилась. Память о Победе в Великой Отечественной - это, по сути, один из немногих факторов, которые сегодня формируют нас как нацию. И эту память пытаются потихоньку задушить, зародить сомнение в россиянах. Дескать, и воевать деды не умели, и трупами своими устлали дорогу до Берлина. А ведь если посмотреть на историю непредвзято, то все страны мира тогда, кроме Германии и ее союзников, смотрели на советские народы с надеждой. 22 июня 1941 года Уинстон Черчилль заявил, что хотя он и ярый антикоммунист, но безопасность Велико-британии и США теперь целиком в руках России. 24 июня подобную речь сказал и американский президент Франклин Делано Рузвельт. Газета Times, рупор финансово-олигархической элиты Запада, также заявила, что судьба человечества решается на Восточном фронте. Сегодня вспоминать, что тогда, по сути, вся мировая закулиса схватилась за нашу страну как за палочку-выручалочку, мало кто хочет. Поэтому через мифы и фальсификации роль СССР в войне всячески принижают. Потери в Великой Отечественной* 1. Людские потери СССР - 6,8 млн военнослужащих убитыми, 4,4 млн попавшими в плен и пропавшими без вести. Общие демографические потери (включающие погибшее мирное население) - 26,6 млн человек. 2. Людские потери Германии - 4,046 млн военнослужащих погибшими, умершими от ран, пропавшими без вести (включая 442,1 тыс. погибших в плену), еще почти 3 миллиона вернулись из плена после войны. Общие демографические потери Германии и ее сателлитов (включающие погибшее мирное население) - 11,8 млн человек. 3. Людские потери стран - союзниц Германии - 806 тыс. военнослужащих погибшими (включая 137,8 тыс. погибших в плену), еще 662,2 тыс. вернулись из плена после войны. 4. Безвозвратные потери армий СССР и Германии (включая военнопленных) - 11,5 млн и 8,6 млн человек (не считая 1,6 млн военнопленных после 9 мая 1945-го) соответственно. Соотношение безвозвратных потерь армий СССР и Германии с сателлитами составляет 1,3:1. То есть ни о каком "завале немцев трупами" и "несоразмерном уровне военных потерь" речи не идет. * По данным, изданным группой исследователей под руководством консультанта Военно-мемориального центра ВС РФ Григория Кривошеева в 1993 году. Еще раз о цене Победы То, о чем нужно помнить 9 мая Вот так всегда – как 9 мая, так непременно оживляются профессиональные демократы, любящие рассуждать или на тему о «непомерно большой цене, заплаченной за Победу» (это если очередной правдолюбец - лицемер), или о том, что «трупами закидали» (если рассуждать берется демократ настоящий, патентованный…). Не будем сейчас думать о том, насколько оправдана была цена, заплаченная за Победу, и во что бы нам обошлось Поражение в той войне… Сейчас речь именно о цене Победы. Начнем с того, что точное, до человека, число погибших в войне, в которой счет жертв идет на миллионы установить невозможно в принципе. Потери, понесенные в катастрофе (а Вторая мировая войны была именно катастрофой для ее главных участников) такого масштаба можно оценить лишь примерно – с точностью до миллиона. Но, и такой точностью оценки потерь похвастаться не могут. Достаточно вспомнить, что в 1945 году в Кенигсберге Иосиф Сталин назвал цифру потерь СССР в войне равную 7 миллионам; при Никите Хрущеве и Леониде Брежневе она выросла до 20 миллионов; современные «умеренные» историки оперируют уже 27 миллионами наших потерь, а наиболее «продвинутые» господа (вроде Ивана Курганова, Александра Солженицына, и Бориса Соколова) говорят аж о 43-44 миллионах! Разброс, таким образом, получается в 6 раз – это, знаете ли, чересчур… Впрочем, с потерями немцев ясности и того меньше. Историк Рюдигер Оверманс в работе «Человеческие жертвы Второй мировой войны в Германии» даже приводит табличку, из которой видно, что данные о немецких потерях тоже различаются – и тоже в разы – от 3,5 миллионов (в 1949 году) до 8,6 миллионов (в 1953 году). Впрочем – о немцах разговор отдельный, и он еще впереди. Сейчас разговор о нас… Начнем с определения простейших цифр – сколько нас было до войны, и после нее. Начнем с последней цифры: тут особых споров нет - население СССР на конец 1945 - начало 1946 года всеми демографами оценивается в 170-171 миллион. Но вот с довоенным населением творятся чудеса. Перепись 1939 года (проводившаяся еще в январе 1939 – то есть до расширения границ СССР) дает численность в те же 170 миллионов. К этому прибавляют еще население «новых территорий» (от Эстонии до Бессарабии – 21 миллионов) и естественный прирост за 1939-1941 годы – 5 миллионов. В итоге получается 196 миллионов до войны и 170 миллионов – после. Значит потери и в самом деле составляют 26-27 миллионов? А вот и нет… Начнем с того, что данные переписи 1939 года – цифра совершенно фантастическая. Дело в том, что предыдущая перепись лета 1937 года дала всего 162 миллионов. Понятно, что за полтора года население СССР на 8 миллионов человек вырасти не могло. Так в чем же дело? Да в том, что перепись 1937 года дала данные реально заниженные (не учли население ГУЛАГа, не сосчитали красноармейцев, во многих местах перепись просто не провели из-за массовых посадок в административных органах…), а перепись 1939 – завышенные (красноармейцев, студентов и «оргнаборцев» сосчитали дважды – по месту постоянной прописки и по месту фактического нахождения). Так что в реальности население СССР на январь 1939 года составляло около 165-166 миллионов человек. Вместе с «новыми территориями» и приростом (который тогда никак не мог быть больше 3-4 миллионов, поскольку СССР находился в «демографической яме», образовавшейся в результате Первой мировой и Гражданской войн) население нашей страны должно было к середине 1941 года составить не более 191-192 миллионов человек. И – вот казус-то! – именно такую оценку и дают статистические справочники… до 1956 года. Поскольку в годы войны сократившаяся по понятным причинам рождаемость едва-едва покрывала возросшую не военную смертность, то приростом населения в 1941-1945 годах можно при расчетах и пренебречь. А вот пренебрегать «второй эмиграцией» в 1,5 миллиона человек – уже нельзя; из числа советских потерь ее следует вычеркнуть, поскольку эти люди вообще не погибли на войне, хотя в СССР и не вернулись. А теперь решим простейшую задачку для третьего класса: до войны было 192 миллионов человек, осталось после войны – 170 миллионов. Сколько погибло, если эмигрировало 1,5 миллиона? Решение уже само по себе сделает «горбачевские потери» в 27 миллионов - смешной цифрой. Правда, и после этого решения потери СССР в 20,5 миллионов все равно остаются в два с лишним раза больше немецких. Но, при этом следует отметить еще одну хитрость, даже две: потери Германии – это, в основном, потери регулярной армии, потери же СССР - это потери мирного населения. По современным оценкам Григория Кривошеева потери советской армии составляют 8,668 миллионов солдат и офицеров, а потери гражданского населения – от 11 до 12 миллионов. Так что удивляться такой разнице в общих потерях не приходится – она происходит главным образом оттого, что Красная Армия геноцидом немецкого населения в Германии не занималась. Но, и с потерями чисто военными тоже не все гладко. Историки-«демократы» как правило «забывают», что воевал СССР не только с Германией. Против нас в 1941-1944 годах воевала целая коалиция, пославшая на Восточный фронт 200 тысяч итальянцев, 300 тысяч венгров, 500 тысяч румын, 150 тысяч финнов, 20 тысяч испанцев, 50 тысяч «добровольцев» из Франции-Бельгии-Голландии-Норвегии… Но их потери (а это – почти миллион человек) учитывать как-то «не принято»… А зря… Если этот миллион прибавить к 7,5 миллионам потерь вермахта (по оценке в 1953 году), то получится, что военные потери Красной Армии и объединенных армий фашистских держав были на Восточном фронте примерно равными. Да иначе и быть не могло. СССР в принципе не мог позволить себе нести потери в разы большие, чем «страны оси». Почему? Да опять же – в силу демографии. Дело в том, что вопреки расхожему мнению, людской потенциал СССР вовсе не так уж превосходил германо-итало-румыно-венгерский. Дело в том, что гитлеровский Рейх середины 1941 года – это гораздо больше, чем 73-миллионная Веймарская республика. Это еще и Австрия (8 миллионов), Судеты (3 миллиона), «Протекторат Богемия и Моравия» (5 миллионов), Познань, «польский коридор» и Данциг (3 миллионов), Эльзас и Люксембург (1 миллион). Итого - 93 миллиона. Плюс - союзники Германии: Италия (40 миллионов), Венгрия (10 миллионов), Румыния (20 миллионов), Финляндия (3,5 миллиона), всего - 73,5 миллиона. Таким образом, численность населения Германии и ее союзников в 1941 году при ближайшем рассмотрении оказывается примерно равной численности населения СССР 1939 года. А если учесть, что уже к октябрю 1941 года агрессорам удалось оккупировать советскую территорию с населением свыше 30 миллионов человек, то придется признать – у СССР в 1941-1944 годах вообще не было численного преимущества! Поэтому нести потери в разы большие, чем германо-итало-румыно-финно-венгерская коалиция СССР не мог в принципе – в этом случае мобилизационный потенциал нашей страны исчерпался бы уже к 1943 году… Между тем, исчерпался он к 1945 году в совсем другой стране – Германии. Как бы ни тяжело приходилось нам в 1941 году, но ничего подобного немецкой «тотальной мобилизации» - от подростков-гитлерюгендов до пенсионеров-фольксштурмистов у нас никогда не было. Так что давайте еще раз поклонимся ветеранам – они воевали не числом, а умением и сделали в 1941-1945 годах гораздо больше, чем мы можем себе представить… Потери СССР во Второй Мировой. Настоящие цифры В перестроечные времена принято было возмущаться: что же мы за страна такая, что не знаем точного числа своих потерь в Великой Отечественной войне. Знакомство с мировым опытом оказалось хорошим лекарством от комплекса неполноценности. С той же бедой сталкиваются и многие другие страны, включая нашего главного противника в той войне – Германию. Еще в 1953 году в ФРГ была придана гласности «почти окончательная» цифра потерь – 6 миллионов 500 тысяч человек, из них 3 миллиона 250 тысяч - военнослужащие. Правда, уже тогда авторы правительственного доклада сделали приписку, что «реальная цифра будет скорее выше, чем ниже» проведенных в 1953 году расчетов. Сегодня официальные источники оценивают потери немецких военных в 5 миллионов 533 тысячи человек, причем очевидно, что и эта цифра не окончательная. В России почти никто не оспаривает страшную цифру в 26,6 миллиона человек так называемых демографических потерь, полученную в 1993 году группой исследователей во главе с консультантом Военно-мемориального центра Вооруженных Сил РФ Григорием Кривошеевым. Спор идет о другом – какое количество из этих смертей стало результатом непосредственных боевых действий, а значит, может быть отнесено к ответственности военачальников, якобы «заваливших врага трупами»? В последнее время сотрудники Министерства обороны РФ, выполняющие по поручению президента Дмитрия Медведева главный объем работ по составлению электронной базы военных потерь, выступили с рядом сенсационных цифр, позволяющих усомниться в «трупозакидательской» версии военной истории. «По нашим расчетам, общее количество боевых потерь Советской армии составило 8 миллионов 668 тысяч 400 человек, - говорит начальник Управления МО РФ по увековечиванию памяти погибших защитников Отечества Александр Кирилин. – Конечно, это цифра не окончательная. Она может увеличиться на 100, 200 или даже 300 тысяч человек. Но не на миллионы». Кирилин считает сильно преуменьшенной нынешнюю немецкую статистику военных потерь вермахта на Восточном фронте, которая на данный момент составляет приблизительно 4 миллиона человек. Но даже если признать ее правильной, соотношение потерь обеих сторон составляет приблизительно1 к 2 – относительно достойный для советского командования результат, если учесть фактор внезапности нападения и превосходство немецкой стороны в технических навыках (советская армия была преимущественно сельской по составу, а немецкая – почти исключительно городской). Независимый военный историк Алексей Исаев считает, что соотношение советских и немецких потерь на уровне «один к двум» сохранялось на протяжении большей части войны, хотя в трудные моменты, особенно в трагическом 1941 году, оно достигало отметки «один к трем» и даже «один к четырем». Впрочем, из-за неразберихи, царившей при отступлении, советская военная статистика именно по 1941 году отличается огромными «белыми пятнами»: по утверждению Кирилина, солдаты многих попавших в окружение частей сразу зачислялись в разряд потерь, хотя многие из них впоследствии вышли к своим и продолжили сражаться. У немцев аналогичные трудности возникают в 1945 году, когда, по словам Исаева, многие потери просто не успевали учесть из-за плачевного состояния делопроизводства в рушащемся рейхе. «Пресловутый немецкий идеальный порядок – это миф,- заключает Исаев. – Не надо забывать и о том, что национал-социалистический тоталитарный режим был не менее склонен к пропагандистским мифам, чем советский. Занижение размеров потерь было частью геббельсовской пропаганды». Александр Кирилин и другие сотрудники Управления по увековечению памяти погибших при защите Отечества утверждают, что в вышеуказанные безвозвратные потери (8,68 млн человек) входят и советские военнопленные, не вернувшиеся из нацистского плена, и даже 103 тысячи расстрелянных по приговору советских трибуналов за дезертирство. Стоит отметить, что вопрос с военнопленными, наверно, не будет прояснен до конца. По подсчетам Управления, советских военнопленных было приблизительно 4,5 млн человек, из них вернулись приблизительно 2 млн. Что случилось с каждым из остальных, выявить довольно сложно. Большая часть, очевидно, погибла в плену, но от 390 до 700 тысяч человек уехали жить в западные государства или остались в Германии и других странах пленения. «Сейчас американцы передают нам данные на некоторых из этих людей»,- сообщил Кирилин. В более или менее окончательном виде электронная база данных потерь в Великой Отечественной войне будет представлена на суд общественности в мае следующего года. Уже сейчас определенное сомнение вызывает огромное количество небоевых потерь СССР, относящихся, по новым расчетам, преимущественно к гражданскому населению (18 млн человек). Однако если учесть, что на разные периоды времени в СССР в те годы подверглись мобилизации (то есть надели военную форму) 32 млн 400 тысяч человек, отделить военные потери от гражданских становится трудно. Впрочем, уже сейчас ясно, что и база боевых потерь будет пополняться постоянно. Приходится примириться с фактом: вторая мировая война была настолько титанической катастрофой, что всей правды о ней, включая точное число погибших, мы не узнаем никогда. А значит, будут продолжаться споры, в том числе, и по таким деликатным вопросам, как число погибших, мера ответственности того или иного военачальника, весомость вклада в победу той или иной страны и т.д. Есть надежда, что со временем все спорщики займутся прежде всего поиском истины, а не подчеркиванием того, кто более искусно воевал или кто больше всех пострадал. Здесь нужно пройти между Сциллой самобичевания и Харибдой шапкозакидательского антизападничества. Стоит учесть, что в современном западном обществе, особенно западноевропейском, симпатии общественности принадлежат не бряцающим оружием победителям, а жертвам. Поэтому не стоит тратить свой пыл на навязчивую демонстрацию иностранным пацифистам нашей мощи – пусть даже былой. Для проявления патриотических эмоций есть огромное поле и дома, и за рубежом. Многие из памятников 600 тысячам советских солдат, погибших в Польше, а также 700 тысячам, погибшим в Прибалтике, находятся в плачевном состоянии. Лишь пять лет назад вернулся на свое место после реставрации монумент Воину-освободителю в берлинском Трептов-парке. Реставрацию памятника, установленного в 1949 году, немецкая сторона провела за свои деньги, выделив на это дело 7 млн евро. «Ситуация с мемориалами на территории России порой еще хуже»,- отмечает Кирилин. В стране есть 26 тысяч массовых захоронений погибших воинов и около 28 тысяч мемориалов. Многие из них создавались еще в пятидесятые годы из дешевых материалов и сегодня быстро разрушаются. Министерство обороны вместе с комитетом «Победа» предложили проект федеральной программы по восстановлению этих памятников. Программа рассчитана на 5 лет и предусматривает выделение 10 миллиардов рублей. Битва за эти деньги в Минфине обещает быть беспощадной. Людские потери СССР в Великой Отечественной войне Рыбаковский Леонид Леонидович - доктор экономических наук, профессор, руководитель центра социальной демографии Института социально-политических исследований РАН. История человечества не знала таких колоссальных человеческих потерь, какие вызвала Вторая мировая война, в ходе которой ежегодно гибло в среднем 8 млн. человек. Почти половина этих потерь пришлась на долю Советского Союза. Он понес и наибольший материальный ущерб: полностью или частично были разрушены 1710 городов и поселков, более 70 тысяч сел и деревень, в совокупности - около 30% национального богатства. Ни одна европейская страна, испытав такой удар и моральный шок, не выстояла бы против мощи нацистской Германии. Почти 3/4 военного потенциала фашистского блока было брошено против СССР... Диапазон оценок людских потерь СССР велик: от 7 до 46 млн. человек. Очевидно, не следует комментировать оценки людских потерь, определяемые в 44, 46 и более млн. человек. Первая оценка (И. Курганов), выполненная методически неверно, получила аргументированную критику в зарубежной и отечественной печати. Еще менее заслуживает внимания цифра 46 млн. человек. Ее автор С. Иванов утверждал, что потери мирного населения составили 24 млн., а всего 46 млн. Такие же цифры называл В. Кондратьев. Эти и подобные им оценки подвергнуты обстоятельной критике академиком А. Самсоновым. Появилась цифра 43,3 млн. людских потерь, полученная Б. Соколовым путем вычитания из численности населения в июне 1941 г. (209,3 млн.) численности населения в мае 1945 г. (166 млн. человек). Обе цифры вычислены самим автором. При желании цифру потерь можно увеличить еще, если слегка (скажем, миллионов на десять) завысить довоенную численность населения, а послевоенную соответственно занизить. Остальные оценки – в границах здравого смысла. Оценки западных ученых колеблются в интервале 16,2-25 млн. человек. За исключением данных С. Максудова, они были получены до первой послевоенной переписи населения СССР и оказались реалистичнее тех, которые делались в Советском Союзе до конца 80-х годов. Причина этому - не в разном уровне профессионализма западных и отечественных ученых, а в том, что в СССР идеологически значимые сведения озвучивали лишь руководители партии и государства. Цензура вплоть до 1987 г., а для научной литературы и чуть позже, не допускала в печати появления цифры людских потерь, превышающей официальную. С 1946 по 1990 г. оценка людских потерь менялась 4 раза в сторону увеличения, но всегда авторами новых цифр выступали генеральные секретари - И. Сталин, Н. Хрущев, Л. Брежнев и М. Горбачев. После этого ученым разрешалось их интерпретировать. Как давались эти оценки? От 7 до 27 миллионов: история оценок Данные людских потерь Советского Союза приводились уже в годы Великой Отечественной войны. Но пока не завершилась война, пока продолжались боевые действия, отсутствовали объективные условия, да не было и необходимости давать оценки общим людским потерям. Учитывались потери вооруженных сил, подсчитывался оставшийся мобилизационный потенциал. Воюющие стороны были склонны, как и во все войны, занижать собственные потери и завышать потери противника. … Насколько нам известно, оценки общих потерь Советского Союза до завершения войны публиковались лишь в прессе Великобритании и США. Сделанная тогда оценка потерь в 30 млн. человек не столь сильно отличалась от расчетов, которые произведены в конце 80-х гг. в России. Потери Германии пересчитываются до сих пор. Известны цифры - 6,5 млн. общих потерь, 6,2 и 6,0 млн., 5,95 млн., 5,2 млн., 5,7 млн. и 8,6 млн. Аккуратные немцы считают, что данные о потерях ненадежны; потери вермахта до сих пор уточняются… Официально первая цифра военных потерь появилась в 1946 г. И. Сталин в интервью корреспонденту газеты "Правда" заявил: "В результате немецкого вторжения Советский Союз безвозвратно потерял в боях с немцами, а также благодаря немецкой оккупации и угону советских людей на немецкую каторгу - около семи миллионов человек"… к марту 1946 г. завершила подсчеты потерь мирного населения созданная в ноябре 1942 г. Чрезвычайная Государственная комиссия (ЧГК) …Согласно архивным данным на оккупированных территориях было уничтожено 11,3 млн. мирных граждан. Кроме того, погибло пленных 4,9 млн. человек. П. Полян, ссылаясь на данные ЧГК, отмечает, что на оккупированной территории мирного населения и военнопленных погибло примерно 11 млн. и вывезено на "восточные работы" в Германию 4 млн. человек… Лучшее средство убеждения для «русских» – палка в руках немецкого солдата (Из трофейных фотографий, изъятых у пленных и убитых солдат вермахта). 1941 г. Киев, 1941 г. На фашистскую каторгу в Германию… Сталинская оценка людских потерь в войне в Советском Союзе продержалась 15 лет. Новая цифра была названа Н. Хрущевым в письме премьер-министру Швеции: "... германские милитаристы развязали войну против Советского Союза, которая унесла два десятка миллионов жизней советских людей". Откуда Н. Хрущев взял эту цифру, предположить можно. В 1957 г. в СССР была опубликована книга немецких авторов "Итоги второй мировой войны". В ней была статья о людских потерях во Второй мировой войне. Профессор Г. Арнтц отмечал, что потери СССР засекречены; но это не специфика СССР - практика засекречивания потерь в войнах принята во многих странах. Не случайно разные источники приводили сведения о потерях СССР в войне от 7 до 40 млн. человек. Сам он оценил потери Советского Союза в 20 млн. Трудно сказать, пропустила цензура в переводной работе расходящуюся с официальной точкой зрения цифру по оплошности или с разрешения. Но факт остается фактом… Стоит добавить, что к этому времени была проведена перепись населения. В 1959 г. численность населения оказалась больше, чем в 1940 г. всего на 14,7 млн. человек. Опубликованные тогда показатели естественного прироста населения для первой половины 50-х годов (средний коэффициент естественного прироста 17%) свидетельствовал, что только за 1951-1955 г. численность населения страны возросла на 9-10 млн. человек. Но прирост населения был и в 1946-1950 г., не говоря уже о 1956-1958 годах. Цифра в 20 миллионов погибших хоть как-то соответствовала величине естественного прироста в послевоенные предпереписные годы. …Упомянутые оценка и цитата воспроизводились в статистических ежегодниках за 1961 и 1962 гг., в журнале "Международная жизнь". … Через 7 месяцев после отставки Н. Хрущева Л. Брежнев по случаю двадцатилетия победы в Великой Отечественной войне сказал: "война унесла более двадцати миллионов жизней советских людей". Именно с этого времени, после выступления Л. Брежнева, в статистических изданиях ЦСУ СССР фигурируют "более 20 млн." Эта очень удобная цифра продержалась до конца 80-х годов, т.е. 25 лет. С начала перестройки потребовалось примерно три года, чтобы появились новые цифры людских потерь СССР в минувшей войне. … Первыми в газетах назвали цифру людских потерь в 26-27 млн. человек историки А. Самсонов, Ю. Поляков и демограф А. Кваша. Инициатором изменения официальной величины людских потерь в войне было Министерство обороны. Оно в декабре 1988 г. направило в ЦК КПСС записку о потерях личного состава вооруженных сил СССР во время Великой Отечественной войны: безвозвратные потери были определены в 8668,4 тыс. человек. В январе-феврале шло обсуждение этого вопроса в ЦК КПСС с участием М. Горбачева, Е. Лигачева, Н. Рыжкова, других членов Политбюро. В выступлении А. Яковлева прозвучало: "Считаю этот вопрос очень важным и очень серьезным со всех точек зрения". Симптоматично: он и Э. Шеварднадзе выступили против обнародования новых данных. Генеральный штаб сам опубликовал в 1990 г. расчеты потерь вооруженных сил. Из обсуждения в ЦК КПСС вопроса о людских потерях стало ясно, что потери вооруженных сил надо дополнить потерями гражданского населения (расчет был поручен Госкомстату СССР). Затем было принято Постановление ЦК КПСС (совершенно секретное!) поручить Госкомстату, Министерству обороны и АН СССР с привлечением заинтересованных ведомств и организаций сформировать временный научный коллектив (ВНК) для уточнения потерь военнослужащих и гражданского населения. В состав ВНК соответствующие ведомства включили: 4 человека от АН СССР, 4 человека от Госкомстата и его научного подразделения, один - от Генерального штаба, один - от Московского государственного университета и один - от ЦГАНХ. ВНК работал в марте-апреле 1989 г. почти еженедельно, споря о цифрах и методах счета. /…/ Предполагалось, что после того как ВНК завершит работу, будет опубликовано коммюнике с согласованной оценкой людских потерь в войне, подписанное членами временного научного коллектива. Этого не произошло. Даже руководители государства и коммунистической партии выступили спустя год с разными оценками - М. Горбачев назвал цифру 27 млн., Э. Шеварднадзе - 26 млн. В 1991 г. Б. Соколов определяет потери мирного населения в 14,9 млн., а военнослужащих - в 14,7 млн. Его суммарная цифра равна 29,6 млн. человек. А. Шевяков потери гражданских лиц в 1991 г. считает около 19 млн., что вместе с военнослужащими составляет 27,7 млн. В 1992 г. он увеличивает гражданские потери до 20,8 млн. и общие - до 29,5 млн. А. Самсонов в 1991 г. приводит цифру потерь в 26-27 млн. Е. Андреев, Л. Дарский и Т. Харькова определяют людские потери в 26,6 млн. человек и т.д. О факторах потерь Советского Союза На долю Советского Союза пришлась почти половина всех людских потерь Второй мировой войны. Он понес и наибольший материальный ущерб: полностью или частично были разрушены 1710 городов и поселков, более 70 тысяч сел и деревень с производственной, социальной инфраструктурой. В совокупности - около 30% национального богатства страны. 23 августа 1942 г. люфтваффе обрушило на Сталинград тонны бомб и практически стерло город с лица земли. На фото: горит нефть, стекающая в Волгу. В уничтоженном суммарном объеме национального богатства воевавших европейских стран доля СССР составляет не менее половины. Ни одна, во всяком случае, европейская страна, понеся такие людские и материальные потери, испытав такой моральный шок, не выстояла бы против мощи нацистской Германии. Почти ¾ военного потенциала фашистского блока было брошено против СССР, потери вермахта на советско-германском фронте составили около 75% личного состава и техники. Советский Союз достаточно большую часть вооруженных сил сохранял на Дальнем Востоке. Тем не менее, СССР устоял и добился триумфальной победы - внес решающий вклад в разгром агрессора и, по сути, уничтожил фашизм. Масштабы потерь, в первую очередь людских, обусловлены действием, по крайней мере, семи групп факторов. 1. Вторая мировая война, в отличие от всех предшествующих ей войн, отличалась уровнем технологий и техники убийства людей. Это была война огромного количества моторов, брошенных на истребление населения. В боевых, а часто и карательных операциях, использовались десятки тысяч самолетов, бронетехники, мощных орудий и минометов, в массовом масштабе применялось автоматическое оружие. Только Германией за три года войны (1942-1944 г.) было произведено около 80 тысяч боевых самолетов, 49 тысяч танков и 69,6 тысяч орудий, большая часть которых использовалась на советско-германском фронте. Применение всего этого арсенала убийств, если сопротивляющаяся сторона (государство, населенный пункт и т.д.) не капитулировала, вело к громадным потерям вооруженных сил и мирного населения… Ленинская улица Минска, разрушенная гитлеровцами Дрезден. Февраль 1945. После англо-американских бомбардировок 2. Гитлеровская Германия, нападая на Советский Союз, стремилась не только захватить его территорию с людскими, природными и экономическими ресурсами, как это случилось с другими странами, но и преследовала главную, чудовищную по замыслу цель - истребить, как минимум, одну четвертую часть населения, проживавшего в европейской части советского государства. … Приведем выдержку из одного выступления Гитлера: "Мы должны развивать технику обезлюживания... я имею в виду устранение целых расовых единиц... Я имею право устранить миллионы людей низшей расы". Останки погибших в лагере смерти «Майданек» …Директива Гитлера, относящаяся к славянским народам вообще, и советским людям в частности, неукоснительно после вторжения в Советский Союз выполнялась службами гестапо и другими карательными органами. "Целью похода на Россию, - говорил Гиммлер в начале 1941 г., - является истребление славянского населения". Гитлеровская доктрина была положена в основу генерального плана "Ост", которым предусматривалось уничтожить в течение нескольких лет 46-51 млн. русских и других славян. Жертвы фашистского террора (Харьков, 1943) Немецкие солдаты среди разрушений в захваченном населенном пункте Особое значение придавалось уничтожению таких крупнейших городов, как Москва и Ленинград, в которых проживало 7-8 млн. человек. Москву планировалось окружить и стереть с лица земли, Ленинград - уморить голодом (финны предлагали затопить). В осажденном Ленинграде Замученные дети Оккупация советской территории сопровождалась созданием концлагерей, как это имело место в других частях покоренной Европы. Но уничтожение в них славян, прежде всего (как и евреев), являлось идеологической догмой нацистского режима. Этим объясняется тот факт, что, с одной стороны, немцы отпускали домой военнопленных, например, из Голландии, Греции и ряда других стран, позволяли получать посылки и почту пленным из армий западных государств, а с другой стороны, методически уничтожали советских пленных. Из 3,4 млн. советских солдат и офицеров, попавших в плен в 1941 г., согласно немецким источникам, погибло 2 млн. Ежедневно в концлагерях расстреливалось, погибало до 6 тысяч советских военнопленных. По другим данным к концу 1941 г. немцами было взято в плен 3,9 млн. советских военнослужащих, из которых к февралю 1942 г. остался 1 млн. Согласились служить в полиции и вспомогательных подразделениях вермахта - 280 тыс., остальные 2.6 млн., видимо, погибли. Из попавших в плен лишь каждый пятый дождался конца войны. Селекция военнопленных (Из трофейных фотографий, изъятых у пленных и убитых солдат вермахта, 1941) К сожалению, до сих пор встречаются рассуждения о том, что гитлеровцы уничтожали советских пленных потому, что СССР не подписал Женевскую конвенцию. Это не что иное, как издевательство над павшими. Фашисты игнорировали эту конвенцию так же, как ранее, придя к власти, они пренебрегли при молчаливом согласии руководителей стран бывшей Антанты Версальскими соглашениями [Женевская конвенция 1929 г. не перечеркивала предыдущие, а именно Гаагские конвенции 1889 и 1907 гг., подписанные как Россией, так и Германией. 17 июля 1941 г. Народный комиссариат иностранных дел СССР официально напомнил через Швецию, которая в годы войны представляла в дипломатическом плане советскую сторону перед Берлином, что Советский Союз поддерживает Гаагскую конвенцию и на основах взаимности готов ее выполнять.] 3. Масштабы потерь во многом связаны, и это относится не только к Советскому Союзу, с объективными факторами. Прежде всего, агрессор всегда имеет ряд преимуществ, одно из которых - внезапность, особенно если агрессивные намерения закамуфлированы соглашениями о ненападении. …Нападая без объявления войны на СССР, фашисты на ряде направлений сконцентрировали силы, превосходящие части Красной Армии в 3-4 раза. За первых два дня фашисты получили полное господство в воздухе, выведя из строя несколько тысяч советских самолетов на аэродромах. В 1941 г. безвозвратные потери советских войск составили 98.9% к среднемесячной численности военнослужащих. За первые 6 месяцев без вести пропало почти 3 млн. человек из 5 млн., приходящихся на годы войны. Фашистская армия в отличие от армий стран - жертв агрессии, включая СССР, была полностью укомплектована и вооружена. Что особенно важно, она имела большой опыт успешных боевых действий, обладала проверенным на Балканах, во Франции и других европейских странах искусством маневренной войны, использования в операциях подвижных соединений, применения авиации для поддержки сухопутных войск. К этому добавим, что в результате молниеносного разгрома Польши, Югославии, Франции и т.д., у немецких солдат появилось чувство победителя, морального превосходства. Берлин, 6 июля 1940 г. Толпа, собравшаяся на площади Вильгельмплац, приветствует фюрера после триумфального возвращения из Парижа 4. СССР противостояли не только людские и материальные ресурсы гитлеровской Германии, но и ресурсы практически всех покоренных к тому времени стран Европы. На стороне Германии воевали Венгрия, Румыния, Финляндия, Италия. По сути, для войны против СССР использовался почти весь природный и экономический потенциал материковой Европы. В войсках агрессора были добровольцы из Испании, Швеции, Дании, Франции, Бельгии, Голландии, ряда славянских стран. В вооруженные силы Германии за годы войны было призвано 1.8 млн. граждан других стран, включая представителей всех республик бывшего Союза. На стороне Германии воевали национальные "восточные" легионы: Туркестанский, Азербайджанский, Грузинский, Армянский, Северо-Кавказский и Волго-Уральский. Только из представителей кавказских народов было создано почти 50 батальонов, с численностью до тысячи человек в каждом. Сюда же следует добавить 8 батальонов крымских татар (численностью до 20 тысяч человек), калмыкский кавалерийский корпус, казачий корпус из трех полков. К 1944 г. на стороне немцев было 200 пехотных батальонов из русских, украинцев и других народов Советского Союза. Только в армии Власова насчитывалось 800-900 тысяч человек. 5. Огромные размеры людских потерь во многом обусловлены преступной деятельностью Сталина и его окружения, стратегическими просчетами, допущенными накануне войны; упорным нежеланием считаться с реалиями войны, особенно на ее первой стадии. Репрессии, принявшие массовый характер во второй половине 30-х годов, не обошли стороной и армию. Так, с мая 1937 по сентябрь 1938 г. репрессировано около 40 тысяч человек командных кадров. Чистки затронули 65% высшего офицерского состава Красной Армии. Проверка боевой подготовки в декабре 1940 г. показала, что из 225 командиров полков, привлеченных на сбор, только 25 окончили военные училища. Приобретение Красной Армией опыта современной войны сопровождалось огромным числом погибших и попавших в плен. В основном это те, кто оказывался в "котлах" из-за стремления Сталина удерживать позиции любой ценой, а также неумелого руководства со стороны многих, если не большинства командиров. Вот некоторые примеры из немецких источников. Германская армия взяла в плен в кольце Минск-Гродно 300 тыс., в районе Умани - свыше 100 тыс., в Смоленском котле - 350 тыс., в Киевском котле – свыше 600 тыс., под Вязьмой - 663 тыс., в Крыму, включая Севастополь, - 250 тыс., южнее Харькова - 240 тыс. и т.д. Только в перечисленных "котлах" в первый год войны в плен попало 2.7 млн. человек. Сталин, заключив с фашистской Германией пакт о ненападении, не совершил ошибки, но допустил огромный стратегический просчет. По свидетельству А. Микояна, И. Сталин был знатоком Бисмарка и полагал, что Гитлер будет следовать принципам "железного канцлера" и не отважится, как это было в Первой мировой войне, воевать на два фронта. Естественно, Сталин считал, будто у Советского Союза имеется несколько лет в запасе. Отсюда - и недоукомплектованность частей, неукрепленность новых границ, медленное переоснащение войск современными видами вооружения, такими, например, как танки Т-34 или штурмовики ИЛ-2. Подобная техника только осваивалась. Этим объясняется то, что в западных округах полностью боеспособными были только 27% танков старых типов, 25 авиадивизий находились в процессе формирования и т.д. 6. В Советском Союзе, как и в Российской Империи, да и в современной России, человеческая жизнь не ценилась. Времена Ивана Грозного, Петра I и Сталина, любившего фильмы о первых двух, не различаются с точки зрения безжалостного истребления человеческих ресурсов. В Великой Отечественной войне, как и в большинстве прошлых войн, умение воевать подменялось использованием огромных людских масс. Так победа над Наполеоном далась огромной кровью: французы потеряли шестисоттысячную армию, а русские почти 2 млн. человек, включая ополченцев и мирных жителей. В годы Великой Отечественной войны было мобилизовано более 31 млн. человек, - треть мужского населения страны. Наличие огромных людских масс и отсутствие ответственности за их жизнь объясняют проведение неподготовленных штурмов населенных пунктов и высот, взятие больших городов к памятным датам. Безответственным по отношению к собственным вооруженным силам можно считать оказание помощи союзникам в Арденнах. Хотя советские войска не были готовы к наступлению, такой шаг был сделан, несмотря на то, что Сталин прекрасно понимал, что союзники не открывали второй фронт ради сохранения собственных ресурсов и с целью измотать силы Советского Союза и Германии. Следует добавить и амбиции маршалов, споривших о том, кто первым войдет в Берлин, возьмет Рейхстаг, который можно было просто стереть с поверхности, и многое другое. Конечно, легко оценивать исторические события. Они никогда не проходят без ошибок... 7. Людские потери Советского Союза были бы намного меньше, поведи себя армия и гражданское население так, как это было в большинстве покоренных гитлеровцами странах. Напав на Советский Союз, Гитлер не получил молниеносной победы, подобной тем, которые он одержал в странах материковой Европы. Так, Польшу он захватил за три недели; потери Германии составили 10.6 тыс. убитыми и 30.3 тыс. ранеными; Францию - за 4 недели, взяв в плен 2 млн. французов (почти 5% населения страны). Югославия пала за 12 дней с ее армией в 1.4 млн. человек. Греция продержалась 2 месяца. Гитлер рассчитывал закончить войну с СССР в 4 месяца. Однако продлилась она почти 47 месяцев и не с тем финалом, который рисовался в первые месяцы войны. Все страны, на которые напала Германия, по словам К. Типпельскирха, не смогли ей противостоять, как будто подтверждая тезис Мольтке: "ошибка, допущенная в первоначальной расстановке сил, едва ли может быть исправлена в ходе всей войны". СССР опроверг эту истину, несмотря на огромное число погибших и пленных, захваченных в первые недели, и даже месяцы войны. Заметим, что во время Второй мировой войны общее число пленных, по архивным данным ФРГ, составило около 35 млн. человек. На долю Советского Союза приходится 16,3%. В это же время доля СССР среди погибшего населения всех воевавших стран составляет почти половину, а среди военнослужащих примерно четверть. Несмотря на все неблагоприятные причины, в плену оказалось менее 3% населения Советского Союза или 5.7 млн. человек, из которых 0,5 млн. бежали, а многие продолжили борьбу. За исключением Югославии, народ которой оказал захватчикам ожесточенное сопротивление, а потому и не досчитал к окончанию войны 11% своей довоенной численности, все остальные страны, как принято нынче выражаться, "цивилизованно" капитулировали и потому особенно не пострадали. По отношению к довоенной численности в Бельгии погиб 1% населения (военнослужащие и гражданские), в Голландии - 2.4%, в Греции - 2.2%, в Норвегии - 0.3%, во Франции - 1.4% и в Чехословакии - 2.4%. Дания практически обошлась без потерь. В Польше погибло 12.4% населения, это во многом связано с массовым уничтожением евреев, проживавших в стране. Из-за внезапного нападения на хорошо разведанные районы в первые же часы было дезорганизовано управление советскими войсками. Многие соединения в результате быстрого прорыва оборонительных рубежей были окружены и в первые дни войны уничтожены и взяты в плен. Тем не менее, врагу повсеместно оказывалось упорное сопротивление. Только в первый месяц войны было сбито 1300 немецких самолетов. Столь же масштабно уничтожались другая техника и живая сила противника. Легендарная Брестская крепость - не единственный пример стойкости советского солдата в начале войны. Оборона Ленинграда, Сталинграда, Севастополя и многих других городов и сел – все это вело к огромным жертвам, но вместе с тем и ковало будущую победу. Стойкость советского солдата по достоинству оценена и гитлеровскими генералами. "Русский солдат, - отмечает генерал-полковник Г. Гудериан, - всегда отличался особым упорством, твердостью характера и большой неприхотливостью". А вот что говорит генерал пехоты Типпельскирх: "Части и соединения русских войск продолжали стойко сражаться даже в самом отчаянном положении". Добавим сюда также массовое партизанское движение, подпольную борьбу, ополчение из плохо вооруженных и неподготовленных к войне людей. Считается, что в народном ополчении было около 2-х млн. человек. От 1.3 до 2-х млн. советских людей сражались в партизанских отрядах и подполье. Многие из них погибли, внеся вклад в общее дело победы над фашизмом. Против фашистов боролись и военные и гражданские, и мужчины и женщины, и взрослые и дети. Очень точно подметил А. Соколов, что если со стороны Германии война шла на уничтожение, то со стороны СССР - за выживание. Гражданское население и армия боролись за выживание, за свое отечество, возможно не совсем ласковое, но все же родное, и потому выстояли, принесли освобождение народам Европы от гитлеризма… Заключение /…/ Незнание истории, как известно, порождает легенды. Но знание истории при соответствующей мотивации способно создавать вымыслы. Прокомментирую в этой связи некоторые домыслы относительно потерь Советского Союза в 1941-1945 гг. - не столько научного, сколько политического характера. Один из них - утверждение, что в потерях Советского народа в равной мере повинны Сталин и Гитлер. Небезызвестный 3. Бжезинский утверждает, что Сталин был большим убийцей, чем Гитлер. Бесспорно, на совести Сталина несколько миллионов загубленных жизней в результате репрессий и вызванного, прежде всего, коллективизацией голода. Он повинен во многих жертвах, связанных с войной. Но не будь войны - не было бы и жертв. Поэтому проводить знак равенства между Гитлером и Сталиным, это уравнивать в злодеяниях жертву и агрессора. Видимо, наступит время, когда в отечественной науке и, что важно, в публицистике объективно воздадут и Гитлеру, и Сталину - "по заслугам". Но сегодня приходится апеллировать опять к немецким ученым, которые считают недостойным проводить параллели между ГУЛАГом и Аушвицем (Освенцимом) (можно добавить сюда Майданек, Бухенвальд и сотни других фабрик убийства людей и промышленной переработки их останков). Одно дело безжалостное, но избирательное, отношение к собственным гражданам, - другое идеологически мотивированное уничтожение народов. Другой домысел это попытка доказать, будто огромные потери Красной Армии несопоставимы с потерями вермахта, преувеличение безвозвратных потерь Красной Армии и преуменьшение потерь вермахта. Но не надо забывать ситуацию, в которой началась война. На первом этапе войны Красная Армия в силу внезапности нападения и неподготовленности к обороне понесла основные потери. Но на заключительном этапе потери вермахта были в 1.4 раза больше, чем советских вооруженных сил. Советские пленные, захваченные в основном в 1941 г., безжалостно уничтожались, увеличивая общие потери. К концу войны погибло 3/4 военнопленных, что увеличило безвозвратные потери примерно на 3.4 млн. человек. Доля погибших пленных в безвозвратных потерях вооруженных сил СССР составляет почти 40%. В отличие от этого, из советского плена вернулось 75% немецких военнопленных. Погибшие пленные составили 14% всех потерь вермахта. Абсолютное число погибших немецких военнопленных в 7 раз меньше, чем советских. Это не неумение воевать, а геноцид. Ров с телами советских военнопленных, умерших от голода и болезней во временном лагере содержания. 1941 г. Отличительный знак советского военнопленного – надпись «SU» на одежде: «Soviet Union» - Советский Союз (Лагерь военнопленных в Дании, 1945) До середины XX века история человечества не знала масштабов людских потерь, которые вызвала Вторая мировая война. В ней ежегодно гибло в среднем 8 млн. человек... Деонтологическая война с Россией Борьба за интерпретации истории стала важным направлением сегодняшних информационных войн, в том числе на том пространстве, где ранее шли сражения Второй мировой. Апелляция к нравственному чувству превратилась в расхожий и эффективный прием пропаганды. Впору вводить новое понятие – «деонтологические войны» как разновидность информационных войн, психологических спецопераций, как новое оружие массовой деморализации... Между морализаторством и аморализмом История не знает сослагательного наклонения. Этот афоризм, произносимый обычно назидательным тоном, используют как последний убойный аргумент - ultima ratio, - для того чтобы лишний раз подчеркнуть бессмысленность размышлений на тему альтернативной истории. История действительно такова, какова она есть. Нередко желание подправить историю, отретушировать ее, выигрышнее подать светлые ее стороны, преуменьшить значимость темных сторон мотивировано моральными соображениями. Вот только какой была история в действительности? Борьба за ее интерпретации стала важным направлением сегодняшних информационных войн, в том числе на том пространстве, где ранее шли сражения Второй мировой. Апелляция к нравственному чувству превратилась в расхожий и эффективный прием пропаганды. Впору вводить новое понятие – «деонтологические войны» как разновидность информационных войн, психологических спецопераций, как новое оружие массовой деморализации. Хотя, судя по незначительному вниманию к данному вопросу, это еще не осознано в полной мере теми, кто осваивает государственные ассигнования на «формирование позитивного образа страны» или занимается вопросами внешнеполитической пропаганды. Течение истории никогда не бывает целиком и полностью фатально предопределено. Оно всегда многовариантно. Всегда многовариантно принятие политических, военных, стратегических решений - этого строительного материала политической истории. И фраза, часто встречающаяся в мемуарах, - «я принял единственно, возможно, верное решение» - есть лишь дань риторике и отражение уровня понимания ситуации и системы ценностей данного конкретного мемуариста. Естественно, что какие-то решения оказываются более гуманными и человечными, какие-то - менее. И тогда, и (ретроспективно) теперь. И у каждого возможного, вероятного, но несбывшегося варианта свои плюсы и свои минусы (и это касается этики) в сравнении с реализовавшимся вариантом. Ретроспективный политический анализ, не будучи историей per se, обязан принимать во внимание вариативность истории, учитывать сценарии, которые реализовывали политики, принимая как верные, так и ошибочные исторические решения, как соотносимые с нормами морали, так и противоречащие им. И «эффективные» решения часто оказывались не самыми морально неуязвимыми. Сегодня мы все чаще сталкиваемся с историческим ревизионизмом, попытками пересмотреть устоявшиеся исторические оценки ключевых событий прошлого, подверстать их под сегодняшние задачи текущей политики. Особенно перегружена якобы нравственными оценками популярная, мифологизированная история, которая обычно является достоянием школьных учебников, популярных фильмов и массового сознания широкой публики. Тут история вообще предстает как борьба сил добра против апологетов империи зла, как борьба «хороших» и «плохих» парней. Причем «хорошие» парни одной страны часто оказываются «плохими» парнями для другой страны. Наши «защитники» бьются насмерть против их «агрессоров», наши благородные «разведчики» противостоят их коварным «шпионам»... Изгнать моральные оценки из оценки исторических событий нельзя. Более того, я уверен, что за такой дисциплиной, как «деонтология политики», большое будущее, если есть вообще будущее у вида Homo sapiens. Но подмена исторического анализа морализаторством фактически граничит с попытками манипулирования историческими оценками. Именно войны обнажают стыковые проблемы политики и этики намного лучше, чем иные исторические события. Тут политические и профессиональные оценки легче всего подменяются нравственными, нередко поверхностными и наивными суждениями. Эта военная история представлена в современной инфосфере как борьба благородных американских солдат, которые жертвуют жизнью, чтобы спасти рядового Райана. В ней коварные японцы бомбят симпатичных парней, романтически влюбленных в очаровательных героинь в Перл-Харборе; жестокие советские русские делят с нацистами многострадальную Польшу, расстреливают невинных польских офицеров в Катыни, оставляя вдовами и сиротами их жен и детей. Впрочем, на месте поляков могут оказываться столь же невинные прибалты или шведские дипломаты, замученные в подвалах Лубянки... Апология этически неприглядных сторон и эпизодов отечественной истории вряд ли красит ее апологетов. Но история вообще не нуждается в апологии. В большей мере она нуждается в объективном и беспристрастном понимании. Все черно-белые эмоциональные и высокоморальные интерпретации истории являются лишь инструментом работы с массовым сознанием, средством его мифологизации, орудием пропаганды, информационных войн, психологических операций. Реальная история до неприличия неполиткорректна и внеэтична. И если на четных ее страницах отъявленными подлецами предстают одни действующие лица, то... стоит лишь перелистнуть страницу... Что мы и попытаемся проделать. История как «политика, опрокинутая в прошлое» Рискну утверждать, что мифологизация истории создается современными информационными методами и технологиями. Смысловая трактовка ключевых событий актуализирует и формирует эмоциональные реперные точки для массового сознания, рационализирует и легитимирует нужные политические и идеологические установки. Исторические мифы - это информационное обеспечение, оптимально заточенное под определенную политику. В данном случае нас интересует политика в отношении России и русских. Я понимаю всю циничность такой постановки вопроса: рассматривать, например, кинематографический шедевр крупного польского мастера кинематографии Анджея Вайды всего лишь... в контексте информационного обеспечения и сопровождения стратегического поворота польской политики в фарватер американских и натовских глобальных планов. Будет, конечно же, вульгарным упрощением считать фильм «Катынь» всего лишь «мероприятием по обеспечению благоприятных морально-психологических условий для размещения в Польше американских ПРО». Равно как трактовать фильмы «Чапаев» или «Броненосец «Потемкин» революционной пропагандой в художественной форме или «воспитательным мероприятием по легитимации советской власти». А в романе, например, Алексея Толстого «Петр I» видеть лишь оправдание сквозь призму истории чисток и политических репрессий 30-х годов ХХ века. Но...Во-первых, упрощение далеко не всегда является искажением. Иногда упрощение позволяет увидеть суть, отбросив второстепенные детали. Во-вторых, «из всех видов искусства для нас самым важным является кино», - говаривал еще в начале ХХ века Владимир Ленин, который был не киноведом, но крупнейшим политиком. В-третьих, чем талантливее мастер и чем весомее художественные достоинства произведения, тем выше его КПД и как инструмента воспитания, станка, производящего нужные смыслы, или орудия пропаганды каких либо идей. Катынь - Мерс-эль-Кебир: непростительные злодеяния или расчетливая политика? Начнем с «Катыни». Не с реальных событий, потому что историки сломают еще немало копий на эту тему, но с современных интерпретаций событий массовым сознанием. Я все жду, когда какой-нибудь не менее известный, нежели Вайда, французский кинорежиссер рискнет снять блокбастер «Мерс-эль-Кебир». …«А что такое «Мерс-эль-Кебир»? - спросят 95%, а может, и все 99% читателей этого текста. Я не настаиваю на этом названии фильма, он может называться и «Операция «Катапульта»… Сэр Уинстон Черчилль описывал это событие 1940 года так: «Правительство Виши <...> может найти предлог передать державам «оси» весьма значительные неповрежденные военно-морские силы, еще имеющиеся в его распоряжении. Если французский флот присоединится к державам «оси», то контроль над Западной Африкой немедленно перейдет в их руки, а это будет иметь самые прискорбные последствия для наших коммуникаций между северной и южной частями Атлантики, а также отразится на Дакаре и затем, конечно, на Южной Америке». Обратите внимание на формулировку: не передало, а «может найти предлог передать». «Присоединение французского флота к германскому и итальянскому флотам, учитывая страшнейшую угрозу со стороны Японии, вырисовывавшуюся на горизонте, грозило Англии смертельной опасностью и серьезно затрагивало безопасность Соединенных Штатов». 3 июля 1940 года английский средиземноморский флот осуществил операцию «Катапульта» по «нейтрализации» стоявшей в Мерс-эль-Кебире французской эскадры. Опять обратите внимание: «нейтрализовать», а не потопить. Вот у кого надо учиться политкорректному новоязу. … В Мерс-эль-Кебире адмиралу Марселю Жансулю английский адмирал Джеймс Соммервилл предъявил ультиматум: - присоединиться к британскому флоту для продолжения совместных действий против Германии и Италии; - перейти в британские порты и интернироваться; - перейти в порты французской Вест-Индии или Соединенных Штатов; - затопить свои корабли в течение 6 часов. Заканчивался ультиматум словами: «Я имею приказ правительства его величества использовать все необходимые средства для предотвращения попадания ваших кораблей в руки немцев или итальянцев». Жансуль уверял, что его корабли никогда не попадут целыми в руки врага, но будут сопротивляться применению силы. Франция вообще тогда не находилась в состоянии войны с Англией. Правда, это не спасло французский флот. Теснота гавани не позволяла начать движение одновременно и мешала ответной стрельбе, поэтому бой превратился в бойню. В своеобразную «Катынь на воде». Или средиземноморский «Перл-Харбор». Потери французских моряков составили около 1300-1600 человек убитых, несколько сотен раненых. 8 июля отряд английских кораблей (авианосец «Гермес», линкоры «Резолюшн» и «Бархэм», не считая мелочи) атаковал линкор «Ришелье», находившийся в Дакаре, и потопил его. Потери французских вчерашних союзников «коварного Альбиона» превысили 2000. Всего в ходе операции «Катапульта» англичанами было потоплено, повреждено и захвачено 7 линкоров, 4 крейсера, 14 эсминцев, 8 подлодок ВМФ Франции. А эскадра адмирала Соммервилла вернулась на базу, как сказал очевидец, «с болью в сердце». «В результате принятых нами мер немцы в своих планах уже не могли более рассчитывать на французский флот», - цинично пишет в своих мемуарах Уинстон Черчилль. Такова политическая оценка операции. Но он же делает попытку и этически оправдать вероломство: «Это было ужасное решение, самое противоестественное и мучительное, которое мне когда-либо приходилось принимать». Существуют разные трактовки военной и стратегической оправданности операции «Катапульта». Ряд военных историков ссылаются на секретный приказ главнокомандующего ВМФ Франции адмирала Жана Дарлана. В нем предусматривалась «скрытная подготовка диверсий, чтобы в случае захвата кораблей противником или иностранным государством они не могли быть ими использованы». В случае чрезвычайных обстоятельств «военные корабли без дополнительных приказов должны перейти в Соединенные Штаты. При невозможности <...> они должны быть затоплены. <...> Корабли, которые будут добиваться убежища за границей, следует использовать в военных действиях против Германии и Италии без соответствующего приказа главнокомандующего флотом». Иными словами, риск перехода французского флота на сторону Германии и Италии существовал, но это не было фатально предопределено, как пытается убедить нас Черчилль. Последующие события доказали, что инструкции Дарлана не были благими намерениями. Когда германские войска в ноябре 1942 года приступили к оккупации Южной Франции, «Прованс» был затоплен собственным экипажем, как и ускользнувший от англичан в Мерс-эль-Кебире «Страсбург». «Дюнкерк» был взорван в сухом доке... И эти события заставляют иначе, нежели Черчилль, взглянуть на операцию «Катапульта». Не как на жестокое, но единственно вынужденное и верное решение, но как на необязательную перестраховку. Соответственно могут быть иначе расставлены и этические акценты в оценке бессмысленно принесенных в жертву жизней французских моряков. Я не собираюсь морализировать по поводу потопления французского флота. Скорее, пытаюсь осмыслить тесную зависимость возможных этических оценок от степени вероятности риска той или иной угрозы. Когда политик или военачальник вынужден брать грех на душу и оценивать приемлемость или неприемлемость моральных издержек своих действий и потом подвергаться суду истории и историков. В том числе и суду совести. Своей и чужой совести. Совести современников и потомков. Отметим избирательность исторической памяти потомков. Обращает на себя внимание и то, что эта, казалось бы, блестящая операция английского военно-морского флота практически неизвестна широкой общественности. По крайней мере ее известность и символическое значение совершенно несравнимы, например, с иным примером вероломства и коварства - Перл-Харбором. И не потому, что это была незначительная военная операция. В Перл-Харборе японской военно-морской авиацией в результате внезапного коварного нападения были потоплены 4 линкора, 2 эсминца, 1 минный заградитель. Еще 4 линейных корабля, 3 легких крейсера и 1 эсминец получили серьезные повреждения. Потери американской авиации составили 188 самолетов, еще 159 были серьезно повреждены. Американцы потеряли 2403 человека убитыми и 1178 ранеными. Как видим, масштабы катастроф Перл-Харбора и «Катапульты» вполне соотносимы и сопоставимы. Остается только задуматься: почему сегодня даже далекие от военной истории обыватели в курсе трагедий Перл-Харбора или Катыни, но мало кто знает о «Катапульте» и Мерс-эль-Кебире? Почему символическое значение, например, Перл-Харбора намного выше? Несколько лет спустя американский генерал Джордж Паттон вспоминал, что, когда он высадился во французском Марокко, его встретили не как освободителя, а залпами. Впрочем, потеряв более 3000 человек, французы сдались. С сегодняшней точки зрения история (особенно новейшая история) вообще представляется коллекцией скелетов в шкафу, доставая которые можно эффективно манипулировать массами, подменяя историческую память историческими мифами и массовыми галлюцинациями. Чаще всего высокоморальное «возвращение к исторической правде», осуществляемое с применением современных информационных технологий, оказывается не способом оздоровления нравственно-психологического состояния общества, но заменой «вредных мифов» «полезными мифами». Покаяние за пакт Молотова-Риббентропа и раздел Польши Еще одним «полезным мифом» является морализаторство по поводу предвоенной политики СССР в отношении Польши и Прибалтики. «Аннексию Советским Союзом прибалтийских государств в 1940 году нельзя считать просто «мерами по укреплению обороны» или «переустройству границ». Это был настоящий акт международного разбоя, в результате которого три суверенных государства потеряли не только независимость, но и четверть населения. Всему этому способствовало заключение нацистско-советского пакта, который дал Сталину и Гитлеру право на бандитизм в собственных «сферах влияния». Это вполне типичная оценка событий современной английской газеты. Заключение «нацистско-демократического» сговора в Мюнхене не удостаивается такого осуждения. Он расценивается не как ошибка, а как мудрый стратегический маневр. Читая, например, военные мемуары или книги британских авторов по военной истории, часто натыкаешься на подкупающие своей откровенностью и чисто английской бесстрастностью суждения: «Мюнхенский кризис завершился, Англия и Франция выиграли время ценой независимости Чехословакии», - пишет, например, современный английский военный историк Брайан Шофилд. А вот пакт Молотова-Риббентропа - однозначно преступление перед Польшей, Прибалтикой, Западом, Востоком, Севером, Югом, человечеством и человечностью. А давайте все-таки применим сослагательное наклонение. Если бы война с Францией пошла, как и планировали союзники, по сценарию Первой мировой войны и Германия завязла в позиционной войне на месяцы, если не годы? Сталин и советское руководство просчитались, заключая пакт. Как просчитались, надеясь на линию Мажино, французские и британские политики, принимая решение о начале войны против Германии в сентябре 1939 года в связи с нападением на Польшу. Кто ж тогда знал, что Франция вслед за Польшей будет раздавлена в считанные недели? А то бы писали сегодня вслед за англичанами российские мемуаристы и историки, оценивая мудрость заключенного пакта Молотова-Риббентропа: «Советская Россия (и антигитлеровская коалиция) выиграли время (и пространство) ценой независимости Польши»... Если думаете, что я буду осуждать Мюнхен с высоконравственных позиций, то ошибаетесь. Зачем быть большим чехом, нежели сами чехи, включая премьера? «Россия <...> чувствует угрозу своей вновь обретенной силовой политике и видит возможность через жесткую риторику вызвать замешательство среди союзников, чтобы в конечном итоге ослабить евроатлантический альянс», - заявил премьер-министр Чехии Мирек Тополанек, выступая в американском «Фонде Наследия» в феврале 2008 года. «Подчеркнув, что Чехия готова вести диалог с Россией, чешский премьер отметил, что по такому важному вопросу, как ПРО, Прага будет принимать решение самостоятельно». Чехия стала «по-настоящему независимой 30 июня 1991 года, когда ушел последний советский оккупант». «Для чешской нации исторически важно, чтобы мы никогда больше не были марионеткой в руках иностранных военных интересов». По Мюнхену Прага также принимала решения самостоятельно. И отказалась от помощи СССР. Но мы должны помнить, что пакт Чемберлена-Гитлера-Муссолини-Даладье в Мюнхене предшествовал пакту Молотова-Риббентропа. А это очень важно, если мы всерьез пытаемся оценить этическую составляющую политики. Потому что сознательное принесение в жертву союзника и вынужденный шаг, когда тебя загнали в угол противники и недоброжелатели, далеко не равноценны. Предвоенная Польша ни при каком раскладе не была для СССР и Сталина союзником, но, скорее, одним из самых агрессивных вероятных противников. Это только в фильме «Катынь» да в массовом польском сознании поляки и Польша того времени воспринимаются в качестве невинной жертвы. Ею еще в 20-е годы были захвачены и украинский Львов, и Вильно, и даже (за считанные месяцы до краха) Тешинская область Чехословакии... Объедки с мюнхенского стола. А в политике воспользоваться конфликтом двух вероятных противников и получить за счет этого новые ресурсы и приобретения - это, скорее, правило, нежели исключение. Тем, кто внимательно и скрупулезно изучал историю 30-х годов, взаимоотношения СССР, Германии, Англии, Франции, трудно не согласиться с тем, что пакт был подготовлен крахом политики коллективной безопасности. …Великие державы все время отказывались учитывать интересы СССР, в разных формах намекая Гитлеру, что СССР в глобальных раскладах уготована роль объекта и жертвы. Пакт Молотова-Риббентропа, ознаменовавший переход к эгоистическим вариантам внешней политики СССР, был результатом и итогом отказа от политики коллективной безопасности. Понятно, что если не можешь решить проблему безопасности вскладчину по причине ненадежности партнеров, то логично вспомнить, что своя рубашка ближе к телу. Когда Польша стала рассматриваться как потенциальный союзник, позиция советского руководства резко изменилась: из полонофобов, приветствовавших «крах уродливого детища Версальского договора», как именовалась Польша Вячеславом Молотовым, оно стало ярым полонофилом, отстаивая компенсации Польши за счет Германии. «Польша, сказал я, - пишет Уинстон Черчилль, - заслуживает компенсации за земли восточнее линии Керзона, которые она отдаст России, но сейчас она требует больше того, что она отдала. Если восточнее линии Керзона насчитывается три или четыре миллиона поляков, то для них нужно найти место на западе. Даже такое массовое переселение потрясет народ Великобритании, но переселение восьми с четвертью миллионов людей я уже не смогу отстаивать. Компенсация должна быть соразмерна потере. Польша не получит никакой выгоды, приобретая так много дополнительной территории. Если немцы бежали оттуда, то им следует разрешить вернуться обратно. Поляки не имеют права ставить под угрозу снабжение немцев продовольствием. Но я возражаю против того, что с Силезией сейчас обращаются так, как будто она уже стала частью Польши». По логике Германия должна осудить пакт Сталина-Черчилля-Рузвельта и приращение Польши за счет германских земель не менее яростно, чем Польша осуждает пакт Молотова-Риббентропа. А полякам есть в чем «каяться» перед литовцами, чехами, украинцами, немцами - перед всеми, с кем граничит Польша. Политика Англии и Франции показывала, что их элиты воспринимали свои интересы как вполне сопрягаемые с интересами нацистской Германии, но несовместимые с интересами СССР. Надеяться, что они поставят нормы международного права выше своих интересов, не было никаких оснований. Война в Испании и «политика невмешательства» еще раз показали, что строить в Европе систему коллективной безопасности против стран «оси» - безнадежное занятие из-за саботажа демократических держав. И еще на тему «иностранной оккупации» и «расчленении независимой страны». В 1941 году иранский шах попытался отказать Великобритании и СССР в размещении их войск на территории Ирана. Ограниченный контингент английских и советских войск вошел на территорию Ирана, и шах был принужден к отречению. Войска союзников контролировали железные дороги, нефтяные месторождения. Мохаммед Реза Пехлеви (сын шаха) занял трон только с разрешения оккупационных держав. Как оценивать этот исторический факт? Глазами высокоморальных правозащитников и блюстителей норм морали и международного права? Или глазами историков, оценивающих эту оккупацию как военно-политическую необходимость? Осталось дождаться, когда иранский меджлис предъявит претензии к РФ и Великобритании. И потребует (как коллаборационист Валдас Адамкус - давайте уж называть своими именами тех, кто этого заслуживает) компенсаций за «оккупацию независимого государства». Раздел суверенного Ирана державами антигитлеровской коалиции на зоны влияния неплохо задокументирован. Сталин писал Черчиллю в сентябре 1941 года: «Дело с Ираном действительно вышло неплохо. Совместные действия британских и советских войск предрешили дело. Так будет и впредь, поскольку наши войска будут выступать совместно. Но Иран только эпизод. Судьба войны будет решаться, конечно, не в Иране». Даже интересно, какую позицию заняли бы в этом случае прибалтийские или польские парламентарии? Вероятно, искренне подержали бы претензии Ирана к РФ. Но столь же искренне возмутились бы необоснованностью претензий Ирана к Великобритании, поскольку оккупация с ее стороны была вызвана военно-политической необходимостью того сурового времени. Тезис об оккупации. Прибалтики в зеркале политической деонтологии Россия - это «общество, насквозь пропитанное духом шовинизма и милитаризма». «Выбранная западными политическими кругами стратегия «приручения» России к демократии обусловила ошибки, которые на данный момент являются уже трудноисправимыми. В международном масштабе так и не были подняты два фундаментальных вопроса - осуждения преступлений коммунизма и вины русских. Если попытки поднимать и обсуждать первый из них хотя бы предпринимаются, то о втором никто не смеет даже заикнуться». «Речь идет не о юридической, а о моральной ответственности русского народа за темные страницы своей истории». «Неудавшиеся взращиватели демократии в России слишком долго не хотели видеть, что в хорошо подготовленную почву здесь падают зерна милитаризма и реваншизма». Эти вполне типичные инвективы в адрес России принадлежат Витаутасу Раджвиласу - философу, политологу, одному из учредителей партии литовских либералов, доктору гуманитарных наук, члену Совета Литвы по высшему образованию, члену Совета Института политики и международных отношений при Виленском университете, президенту Института демократической политики, члену правления Института наблюдения за соблюдением прав человека. Давайте посмотрим, что конкретно означает «вина русских», «моральная ответственность русского народа за темные страницы своей истории» применительно к Литовскому государству, литовцам, прибалтам в целом. А ведь именно в Прибалтике пакт Молотова-Риббентропа осуждают больше всех и чаще всех. Чтобы склонить симпатии населения Литвы к СССР и минимизировать противодействие инкорпорации в состав Советского Союза, 10 октября 1939 года Литве был возвращен отобранный у нее ранее Вильнюсский край с исторической столицей Литвы Вильнюсом. Этот регион был захвачен Польшей в 20-е годы, а 15 марта 1923 года на конференции представителей Англии, Франции, Италии и Японии права Польши на него были «международно признаны». В процессе определения новых границ между республиками СССР 3 августа 1940 года Литве был передан также ряд белорусских земель. Важно отметить, что район Мемеля-Клайпеды с 60-тысячным этническим немецким населением в 1920 году перешел под управление Антанты, а в 1923 году по решению Лиги Наций был передан Литве, но вновь оккупирован Германией в марте 1939 года. В процессе делимитации советско-германской границы за юго-западную часть Литвы (Вилкавишский район) для сохранения целостности Литвы советское правительство в 1941 году заплатило Германии 7,5 миллиона долларов. Клайпеда и Клайпедский край были возвращены в состав Советской Литвы Красной армией в 1945 году. Публицистика и пресса современной Литвы, как правило, обходят молчанием эти приобретения Литвы, «дарованные» ей в связи с вхождением в СССР и не укладывающиеся в националистическую пропагандистскую схему «советской оккупации». Советская власть не намерена была оставлять в пограничном районе потенциальную пятую колонну. По данным исследователей, перед войной были арестованы более пяти тысяч и высланы из Литвы более 10 тысяч человек. Арестовывали и виновных, и невиновных: социальное происхождение, послужной список, близость к авторитарному режиму Антанаса Сметоны и т.п. были достаточным основанием для ареста или высылки. И эти репрессии отчасти способствовали широкому коллаборационизму литовцев с Германией. По свидетельству историков, на 1 марта 1944 года в рядах литовской полиции порядка и полицейских батальонах служили восемь тысяч литовцев. Общая численность военнослужащих этих формирований достигала 13 тысяч. Сопротивление было и пассивным: по данным военного комиссариата Литовской ССР, по состоянию на 1 декабря 1944 года от призыва в Красную армию уклонились 45 648 человек. Формирования зарекомендовали себя как каратели и в Литве, и в других оккупированных регионах, уничтожили тысячи мирных жителей. Весной 1945 года общая численность антисоветских повстанцев достигла 30 тысяч человек, а в целом в рядах литовских «лесных братьев» насчитывалось 70-80 тысяч человек. Многие из отрядов поддерживались абвером. Масштабными были и «контрмероприятия», осуществляемые советской властью, репрессии в отношении пособников гитлеровцев и «классово враждебных элементов». Так, к концу 1949 года число «выселенных и спецпереселенцев» составило 148 079 человек. Мероприятия по выселению осуществлялись семь раз (в 1944, 1945, 1946, 1947, 1948 и дважды в 1949 годах). Массовый характер носила и борьба против антисоветского подполья, вооруженных «лесных братьев» со стороны местных просоветски настроенных граждан, организованных в отряды местной самообороны («истребителей»). В октябре 1945 года по постановлению ЦК КПЛ и Совета министров ЛССР они были переименованы в отряды «народных защитников», которые формировались из числа активистов. Численность «истребителей» составляла 8-10 тысяч человек. Еще в 1942 году в составе советской армии было сформировано литовское национальное соединение - 16-я Литовская стрелковая дивизия, которая участвовала в боях за освобождение русских, белорусских, литовских земель, пройдя от Орловщины до берегов Балтийского моря. Около 14 тысяч воинов дивизии были награждены боевыми орденами и медалями, 12 из них получили звание Героя Советского Союза. Эти цифры и факты показывают, что линия раскола проходила внутри самого литовского общества, а вооруженное противостояние внутри Литвы оказалось тесно связано с образовавшимися международными геополитическими коалициями, с вооруженной борьбой фашистского и антифашистского блоков государств. Массовое участие литовцев в сотрудничестве с оккупационными немецкими властями, в том числе и поддержка с оружием в руках в полицейских и иных формированиях, обусловили массовость вооруженного сопротивления на завершающих этапах войны и непосредственно после нее. Учет этого фактора дает дополнительный ключ к пониманию масштабного характера послевоенных репрессий, в частности такой широко применяемой меры, как высылка. Литовская «национальная идея», как и в других странах Прибалтики, при проверке историей оказывается слишком часто запятнанной коллаборационизмом. Попытки ее безоговорочного возрождения, использования для легитимации новых государственных институтов, идеологии и политики дистанцирования от России нередко ставят лидеров государства в двусмысленное положение. Начиная с апологетики антисоветской и антикоммунистической борьбы они вынужденно соскальзывают на апологетику коллаборационизма и литовских младших партнеров и союзников нацизма. Все попытки найти «третий путь» между нацизмом и коммунизмом оканчивались, как правило, неудачей в конкретных исторических условиях. Миф о преемственности литовской национальной демократии нуждался и нуждается в подпитке убедительными историческими аргументами. Но в реальных условиях политической поляризации, вооруженного противоборства середины ХХ века история просто не оставила пространства для его существования. На референдуме 14 июня 1992 года граждане независимой Литвы проголосовали за возмещение ущерба от «советской оккупации», а принятый в 2000 году закон обязал правительство инициировать переговоры с РФ по этому вопросу. Правительственная комиссия подсчитала ущерб в 80 миллиардов литов (1 евро = 3,4528 лита). Такая вот «моральная ответственность», выраженная в круглых цифрах. Не спешите смеяться. Правительство Виктора Черномырдина в 90-е годы выплатило несколько сотен миллионов у.е. в качестве царских долгов в пользу рантье Франции, например. И оснований требовать выплату «долгов» у французов было на порядок меньше, чем у литовцев. Впрочем, рядовые литовцы - реалисты. Опросы, проведенные в Литве, показывают, что 83,7% жителей Литвы не верят в то, что Россия будет возмещать так называемый ущерб от так называемой оккупации. Верят 13,4%, а 2,9% не имеют определенного мнения. Но идея «вины русских» жива в литовском массовом сознании, интенсивно обрабатываемом на протяжении почти двух последних десятилетий. 47% опрошенных считают важнее моральную компенсацию, 46,8% отдают приоритет финансовой компенсации. 49,4% респондентов уверены, что диалог с Россией следует начинать с моральной компенсации «ущерба от оккупации СССР», а 69,9% полагают, что РФ несет ответственность за преступления, совершенные СССР. Противоположного мнения придерживаются 25,6% опрошенных. Поясню, что для меня лично этически означает позиция господина Раджвиласа и литовских парламентариев о «вине русских». Я, русский, должен извиняться перед литовцем Витаутасом Раджвиласом за то, что в 1943 году, в том числе и литовские полицаи-каратели, расстреляли моих деда с бабкой - мирных крестьян Себежского района Псковской области во время операции «Зимнее волшебство», и выплачивать их потомкам репарации за эти убийства. Уж не знаю, принимал ли кто-нибудь из предков литовского либерала и «защитника прав человека» личное участие в этой «правозащитной операции», осуществляемой под эгидой вермахта... «Литва будет настаивать на признании Россией факта советской оккупации и на возмещении нанесенного этой оккупацией ущерба», - заявил президент страны Валдас Адамкус, выступая на заседании коллегии МИД Литвы. О да, господину Адамкусу «оккупация», вероятно, нанесла еще и моральный ущерб, когда он с оружием в руках воевал на стороне гитлеровской Германии и даже участвовал в боях с Красной армией. Больше таким послужным списком не может похвастать ни один из действующих президентов европейских стран. Да и мира, наверное. Только хорошая физическая подготовка и навыки стайера сохранили драгоценную жизнь нынешнего президента независимой Литве, о чем он сам написал в мемуарах, впрочем, предпочитая особо не распространяться на данную тему. Может, ущерб - это возвращение Литве оккупированного Польшей Вильнюса, захваченного Мемеля-Клайпеды, которые добрососедская Польша и не менее добрая Германия отобрали у независимой Литвы? Да, за такие преступления нужно строго взыскать с России - правопреемницы СССР. «Кстати, о Вильно. На каком основании Сталин эту белорусскую столицу, население которой на 80% состояло из белорусов, отдал Литве?» - пишет некий «национально ориентированный» белорусский историк. Не будем влезать в семейные споры независимых национальных демократов-европейцев о том, кто именно является законным наследником Великого княжества Литовского. Или основным претендентом на подаренный Литве политикой Сталина-Молотова-Риббентропа Вильнюс - современные белорусы или жемайты с аукштайтами, «незаконно присвоившими и историю, и бренд». Ибо история часто доказывала, что когда незалежные и самостийные европейцы дерутся - у русских чубы трещат! Пора сделать выводы. С монотонной частотой приходится натыкаться в западных СМИ на такие трактовки истории взаимоотношений прибалтийских государств и СССР: «Полувековая советская оккупация, во время которой Кремль расстрелял тысячи прибалтов, сотни тысяч сослал в сибирские лагеря». Журналисту, автору этой цитаты, если он честный человек, я бы посоветовал просто поинтересоваться количеством прибалтов, участвовавших в вооруженной борьбе с войсками антигитлеровской коалиции на стороне стран «оси». Газета Latvijas avize недавно опубликовала рассказ одного из латышских легионеров Леопольда Рубиса, отправленного в Германию обучаться обращению с пушками и зенитными установками. Леопольд попал в легион, в первой же битве был ранен, однако воевать продолжил - в тот день легионеры подбили пять русских танков. «Если бы мы тогда не воевали у латвийской границы, то те 200 000 латышей, которые успели спастись в Швеции, Германии, Америке, были бы схвачены в Курземе и отправлены в Сибирь», - считает бывший легионер. Во времена советской власти Леопольд Рубис был сослан в Комсомольск-на-Амуре - строить железную дорогу. … На 1 октября 1942 года только полицейские силы Эстонии составляли 10,4 тысячи человек, к которым был прикомандирован 591 немец. В различных формированиях на стороне Германии во Второй мировой войне сражались около 90 тысяч эстонцев (около 30 тысяч в подразделениях SS). В частях немецкой армии и других подразделениях служили около 50 тысяч литовцев и 150 тысяч латышей. Только на территории Эстонии имелось около 140 концлагерей. В Тартуском лагере уничтожены 12 тысяч человек. В концлагере в Клоога убиты около 8 тысяч. С 1941 по 1944 год во всех этих лагерях уничтожены от 120 до 140 тысяч евреев, русских, украинцев, белорусов и людей других национальностей. Уже в феврале 1942 года Эстония была объявлена свободной от евреев. По разным оценкам, из пятитысячной еврейской общины Эстонии в живых остались не более 500 человек. Эстонские отряды «Омакайтсе» и «полицаи» славились своей жестокостью. На территории Эстонии погибли от 60 до 70 тысяч советских солдат в боях за освобождение этой земли от нацистской Германии. Какой процент потерь приходится на долю эстонских коллаборационистов из различных военных и полувоенных формирований? Количественно участие представителей Прибалтики вполне соотносимо с «вкладом» в войну на стороне стран «оси», например Финляндии. А ведь Финляндия была принуждена к выплате репараций в пользу СССР. Мне кажется, что вопрос о том, кто и кому обязан выплачивать репарации, является не столь однозначным, как представляется некоторым прибалтийским парламентариям и президентам. И ссылки на отсутствие независимости в то время не являются универсальной индульгенцией на все преступления, совершенные коллаборационистами. Пока что мои призывы и записки российским политикам о необходимости создать комиссию при Федеральном Собрании по подсчету ущерба, понесенного Советским Союзом от военной, карательной, охранной, мародерской и иной деятельности коллаборационистов Прибалтики во время войны и после войны, не осознаются как серьезная политическая и экономическая проблема. Пока. … Ну и еще детали, чтобы поставить точки над «i» в вопросе об «оккупации» Прибалтики, из секретного меморандума министра иностранных дел Великобритании Антони Идена от 28 января 1942 года, разосланного для ознакомления членам английского правительства: «С чисто стратегической точки зрения как раз в наших интересах, чтобы Россия снова обосновалась в Прибалтике с тем, чтобы иметь возможность лучше оспаривать у Германии господство в Балтийском море, чем она могла это делать с 1918 года, когда для доступа к Балтийскому морю имелся только Кронштадт». То, что казалось очевидным политикам военных лет, подвергается сегодня ревизии с применением этической аргументации. Деонтологическая война с Россиейпродолжение Разрушенная Варшава и освобожденный Париж Рассмотрим еще одно часто встречающееся обвинение в адрес советской армии о том, что она не пришла на помощь восставшей 1 августа 1944 года Варшаве во главе с генералом Тадеушем Бур-Комаровским. Восстание было потоплено в крови, город уничтожен, 2 октября восставшие капитулировали. Нередко для усиления контраста используется пример «освобождения восставшего Парижа дивизией генерала Филиппа Леклерка». …«А войска Красной армии спокойно ждали в варшавском предместье Праге», - пишет в своих мемуарах американский генерал Омар Брэдли. Но даже в мемуарах самого Брэдли просачивается правда, показывающая, что нередко война на западе вообще не была похожа на войну на востоке. Вот, например, пассажи о причинах остановок в наступлении американских и английских войск: «Нехватка в живой силе вынудила нас замедлить темп продвижения, и наши войска <...> завязли в грязи». «Прошла неделя, но уровень воды в Руре не понижался, и мы решили подождать еще неделю». «Монтгомери настаивал на том, чтобы его обеспечили солидными запасами, перед тем как начать преодоление этой водной преграды». И вообще приказы «удерживать занятые позиции, пока не будут созданы запасы, позволяющие возобновить наступление», - это, судя по мемуарам, было нормой в армии союзников. Войскам Белорусского фронта, измотанным непрерывным 40-дневным наступлением, понесшим тяжелые потери, оторвавшимся от баз, не имевшим адекватной авиаподдержки, союзные генералы почему-то отказывают в наличии веских причин для невозможности взятия Варшавы «с ходу». Хотя тут же пишут, что любая задержка наступления на западе приводила к тому, что «немцы получили бы возможность нанести удар Красной армии, сосредоточивавшей свои войска на Висле». Впрочем, даже после «успешного контрудара» в Арденнах немцы отошли на линию Зигфрида. И «еще девять немецких дивизий были переброшены на русский фронт». А что произошло в Париже? Еще недавно в советской официальной истории освобождение Парижа трактовалось так: «Дуайт Эйзенхауэр приказал 2-й французской танковой дивизии генерала Филиппа Леклерка двинуться на Париж. Передовые части этого соединения вступили в столицу лишь 24 августа вечером, когда победа восставших уже стала очевидной». Понятно, что роль «восставшего народа» для идеологизированной истории не грех было и преувеличить. «Правильно восставшего народа». В Варшаве восстал «неправильный народ» под командованием «неправильных генералов», ориентированных на «неправильное правительство». Поэтому данное восстание с легкой руки Иосифа Сталина было охарактеризовано как «варшавская авантюра», затеянная «группой преступников» «ради захвата власти». Но вот генеральный консул Швеции и генерал Омар Брэдли уверяют, что комендант Парижа Дитрих фон Хольтиц и руководители Сопротивления просто заключили взаимовыгодную сделку, устраивавшую обе стороны. «Немецкий комендант Парижа признавал правительство, выдвинутое восставшими, а французы брали на себя только одно обязательство - прекратить стрельбу по немецким войскам», впрочем, и та и другая стороны не были в состоянии сдержать многочисленные стычки. Разозленный генерал заявил: «Я никогда не сдамся нерегулярной армии». Шведский консул решил, что «если немецкий комендант не хочет иметь дела с нерегулярной армией, то, может быть, он войдет в переговоры с армией союзников <...> что дало бы фон Хольтицу возможность с честью сдать столицу Франции. Фон Хольтиц принял предложение шведа, он даже выразил готовность в целях безопасности послать офицера, который провел бы делегатов через немецкие линии». Омар Брэдли не без иронии пишет: «Мне гораздо легче было послать на Париж любое количество американских дивизий, но я намеренно избрал французские части», впрочем, бронетанковая дивизия Леклерка «медленно пробиралась сквозь толпы французов, на всем пути население встречало ее вином и бурными приветствиями. Я не мог осудить французских солдат за то, что они отвечали на приветствия своих соотечественников, но я также не мог ждать, пока они продефилируют до Парижа. Мы должны были выполнить условия соглашения с Хольтицем». «К черту престиж, сказал я наконец <...> отдайте приказ Четвертой (американской. - А.Ю.) дивизии выступить и освободить город. <...> Узнав об этом приказе и испугавшись за честь Франции, танкисты Леклерка сели в свои машины и быстро двинулись вперед». Собственно, поэтому освободителем Парижа и считается французский генерал Филипп Леклерк, пришедший на помощь восставшим парижанам... Какую историю мы должны преподавать своим детям? Я не встречал в западной прессе предложений общественности о том, чтоб красочное и драматическое описание операции «Катапульта» внести во все французские и английские школьные учебники и сделать частью исторической памяти французов и англичан. Она, общественность, в основном озабочена поддержкой претензий к России. Польских претензий, английских, американских, литовских, эстонских и всех прочих претензий. Либеральная отечественная общественность по мере сил помогает в этом общественности западной. И возмущается школьными учебниками, в которых наши отцы и деды не изображены «плохими парнями», только и думавшими, как бы учинить соседям и согражданам какое-нибудь злодеяние. Общественность жаждет «исторической правды», как она ее понимает. Вернемся к фильму о расстреле польских офицеров в Катыни. … «В эту субботу польское консульство в Бресте провело классную пиар-акцию с идеологическим подтекстом, пригласив на просмотр фильма Анджея Вайды «Катынь» в Бяло-Подляску культурных брестчан. <...> Разумеется, многие из ехавших не скрывали, что желание их, скорее, посетить торговые центры, нежели проникнуться творчеством польского режиссера. Но... Тем не менее фильм пришлось отсмотреть». Это цитата из Живого Журнала белорусского демократа. Еще одна цитата: «Солдат польской армии добровольно-принудительно повели строем в кино - смотреть фильм «Катынь» в рамках политической подготовки бойцов». Чтобы понять, для чего это делается, добавим еще щепотку правды. Голой нецензурируемой правды с польских сайтов и интернет-форумов об отношении современных поляков к России и к современным русским: «Krusnik_02. И что делает ЕС? Вместо того чтобы политически сгноить Россию, поджимает хвост, потому что у Владимира есть ядерные бомбы и газовый вентиль. Eryk.wiking. Во имя чего Польша теперь разговаривает с Россией как с нормальной страной? Во имя золотого тельца, презрев принципы. Тьфу. Krakus_24a. Москали - это дикая страна, а самые смешные - те, кто хочет с ними разговаривать. Только ядерная бомба или снайпер вылечит Россию. Mackdaddy. Методы времен чисток и показательных процессов времен Сталина, когда его любимчики Ежов, Берия и Абакумов приказывали давать гнусные показания против всех, даже против собственных детей. В России все еще царит чекистский менталитет, у этой страны нет никаких шансов. Super_benek. За это и другие многочисленные случаи нарушения прав человека Россия должна быть удалена с международной арены. Но это невыгодно, поэтому ее продолжают принимать в приличном обществе. Bartezuma. История эта показывает, какая дистанция отделяет Россию от Европы. Россия - это страна, приспосабливающая законы и нормы к собственной выгоде, к своим прихотям. Страна, которая по уровню цивилизованности может быть поставлена в один ряд с Ираном, Афганистаном и Северной Кореей. Flamengista. Дикая страна. Современная Россия немногим отличается от царской России - то же «уважение» прав человека, та же элита, которая при любой попытке стать самостоятельной может быть ликвидирована. К сожалению, русским это вполне подходит. Страна более-менее развивается, но они живут под диктатурой. Хуже всего то, что им это совсем не мешает. Для русских естественно быть нацией рабов, лишь бы это была могущественная нация и подавляла другие. Gekon_1979. Кацапобольшевия должна быть изолирована от мира, тогда там сдохнет 50% кацапства, а вторая половина, может быть, станет людьми (но я в этом сомневаюсь). Я согласен с предыдущими ораторами, что на эту заразу, какой является кацапство, есть только одно средство - ядерные бомбы, о диалоге не может быть и речи. Следует закрыть границу и изолировать их. Может быть, с помощью Великобритании это удастся. Kinskyart. Страшное место, страшные люди. Sabaku.no.gaara. В этом народе столько же демократии, сколько воды в сите. Ну и, к сожалению, москали настолько сумасшедшие, что если бы, например, заблокировать границу кацапам, то главный кацап запустит ядерную бомбу куда-нибудь в Европу. Но после литра водки на завтрак это неудивительно. ЕС и даже США действительно боятся конфликтовать с Россией, но только потому, что заботятся о своем народе». «Политически сгноить», «дикая, ненормальная, сумасшедшая страна», «нация рабов», «ядерная бомба или снайпер», «изолирована от мира», «нелюди»... Культурные высокоморальные люди, не правда ли? И наверняка все посмотрели уже фильм Вайды, в котором, как уверяют российские рецензенты, нет ни грамма русофобии и выведен даже один русский офицер в качестве положительного героя. Какая уж тут русофобия? Обратите внимание, что речь уже не идет о Советах, а именно о «кацапах-русских». Это очень важно для избавления нас с вами от иллюзий, что ненависть Запада к стране объяснялась, как уверяют отечественные либералы, неприятием советской власти, Сталина, КГБ, КПСС... Теперь понятно, зачем актуализируются и расчесываются до крови реальные и мнимые конфликты и споры? Ведь современные русские не причинили никакого зла этому поколению поляков. Да разве в современной политике это имеет значение? Разве современные сербы угрожали как-либо интересам США и стран НАТО, уничтожавших Сербию? Учимся ли мы у истории? Трудно не согласиться с мыслью Элеоноры Рузвельт, которая вынесена в эпиграф статьи. Особенно когда видишь трогательную надежду польской интернет-публики на западных покровителей. Точно так же, вероятно, в 1939-1940 годах их деды надеялись на Англию и на Францию. И горьким было разочарование. В мемуарах одного польского офицера - Стефана Газела, - который пробирался после оккупации Польши по Франции в Англию, есть немало интересных деталей о том, как воспринимали в 1940 году французы своих польских «союзников». «При нашем появлении трое мужчин, находившиеся в магазине, подняли руки. Один тут же ответил: - Jawohl. - На улице стоит ваш грузовик? - Jawohl. - Мы можем его взять? - Jawohl. - Но в нем корзины, вы можете их выгрузить? - Jawohl. Мужчины тут же вышли на улицу и стали поспешно разгружать грузовик. Я обратил внимание, что один их них пристально изучает нас. Неожиданно он бросил корзины на землю и закричал: - Это не Boches! Это Polonais? Теперь и остальные поставили корзины и с удивлением уставились на нас. Они обрушили на нас страшный поток ругательств. Тут же откуда ни возьмись появились еще французы и тоже стали всячески оскорблять нас. <...> Я <...> увидел, что один из французов достал нож и собирается проткнуть шины. Сташек выстрелил в воздух. Все разбежались». Далее мемуарист зашел в магазин: «- Etes-vous Polonais? - Да. - Вы хоть понимаете, что навлекли на нас? Мы ведем войну за ваш Данциг и «польский коридор». И к чему это привело? Les Boches в Париже! Никогда не надо воевать за другие народы». Русофобия автора процитированных мемуаров хотя бы понятна: «Я был воспитан в понимании, что немцы и русские мои враги, а моя священная обязанность как поляка - не щадить ни тех, ни других». Но вот на чем основана русофобия части современного поколения поляков? Думается, именно формирование «исторической памяти», заточенной под актуальные задачи сегодняшней польской элиты, как она их понимает, играет далеко не последнюю скрипку в формировании отношения к России и русским. Нет, не снимут французские киношники такого фильма, да и не получить ему «Оскара» вовек! Как не снимут немецкие режиссеры «Дрезден», японские - «Хиросиму», а чешские - «Мюнхен». Ибо «историческая правда» нужна сегодня далеко не всякая, а лишь строго дозированная и верно ориентированная. Это только в России модно снимать наполовину самооплевательские ленты, вроде «Сволочей» или «9-й роты», не имеющие к реальной истории никакого отношения, способные вдохновить разве что дезертиров. «Историческая правда» в качестве сырья для сегодняшней пропагандистской лжи Вот правда из Живого Журнала, не нужная ни Вайде, ни белорусским демократам: «Двоюродный прадед с семьей жил на хуторе в белорусском Понеманье. Хутор был довольно глухой. Настолько глухой, что о том, что сменилась власть, пришла Красная армия в 1939 году, прадед узнал только к Рождеству, когда случилось ему попасть в Лиду за покупками, которые он пытался сделать на польские злотые. Все взаимоотношения с новой властью свелись к тому, что старшего сына призвали в армию. Впрочем, он сам этого хотел. Ну очень глухим был хутор. О приходе немцев узнали быстрее, потому как вблизи хутора шли бои. Оккупацию пережили относительно благополучно. В 1944 году Красная армия вернулась. Уже в сентябре младшая из троих дочерей была отправлена в райцентр в школу. В ноябре хутор был сожжен, скот угнан, все жители (около 20 человек) убиты. Фронт был уже не близко, но расследованием занимались «смершевцы». Хутор был уничтожен и ограблен одичавшим отрядом Армии Крайовой, состоявшим из кадровых польских офицеров. Помимо таких «подвигов» за ними числились еще и диверсии в тылу армии, которая примерно в это время вела бои в Западной Польше. По слухам, когда отряд был блокирован, выживших в бою «смершевцы» расстреливали. Из уважения к благородному происхождению и офицерским званиям. Несмотря на то, что полагалось вешать. Выжившая дочь моего прадеда уже много лет живет в Питере. Очень бодрая старушка». Недавно польский премьер Ярослав Качинский, поддержанный братом-президентом Лехом, предложил учитывать военные потери Польши при выработке системы голосования в ЕС, поскольку, по его мнению, если бы не война, население Польши составляло бы не 38, а 66 миллионов.
Десантники изучали по фотоснимкам места расположения бензобаков на В ходе боев на аэродроме и при отходе десантников в горы были уничтожены более 40 Мир тесен. Теги: Великая Отечественная Война, Десант Эксперт: США настроены на победу и готовы играть «в долгую».
Президент США дико извиняется и больше так не будет В начале Великой Отечественной войны агенты абвера по личному Бокия в разное время вносили мистик и гипнотизёр Александр Гурджиев, медиум и Рерихом – именно ему Трилиссер и поручил руководство миссией в Лхасу.

Съемочная группа НТВ сегодня побывала в бывшем архиве вермахта. Там впервые согласились показать документы о немецком солдате, который, рискуя жизнью, пытался изменить ход истории, предупредив СССР о скором нападении. Интересно, что об этом человеке почти все слышали, но никто толком не знает. Все, наверное, помнят хрестоматийное — «21 июня границу перешел немецкий солдат, сообщивший, что вермахт получил приказ атаковать..»? И больше — ни слова ни в каких хрониках. Телекомпания НТВ решила восстановить справедливость и имя героя. Солдата звали Альфред Лисков, и судьба его очень показательна. Репортаж корреспондента НТВ Константина Гольденцвайга. Кем был тот немецкий солдат и почему в последний момент он перешел через Западный Буг на советскую сторону, ни по ту, ни по другую сторону границы всерьез никто не изучал. Документы на Альфреда Лискова в бывшем архиве вермахта для съемочной группы НТВ открывают впервые. Вольфганг Рэммерс, начальник отдела архива личных потерь вермахта: «Его фамилия в первом же списке потерь. Вот, 22 июня 41-го, город Сокаль. Но что странно: в отличие от других выбывших из строя, о Лискове больше никаких данных. Что с ним стряслось, для начальства было загадкой». В полку сочли поначалу, будто ночью 22 июня он попросту утонул в Западном Буге, возводя переправу для войск. Однако уже в июле на Украине однополчане утопленника наткнулись на сбитый русский самолет. А рядом лежали листовки за его подписью: «Сдавайтесь красноармейцам». «Палка офицера, угроза расстрела заставляет немецкого солдата воевать. Но он не хочет этой войны. Он жаждет мира, как и весь германский народ», — говорилось в листовках. В германском гестапо на изменника Рейха завели уголовное дело, сохранившееся до наших дней. Допросы близких, друзей и бывшей жены, которую Лисков оставил с сыном за три месяца до осуществления плана. В том, что бегство было именно планом, сомнений не остается. Как и в том, что процесс над Альфредом Лисковым, попадись он лишь вновь в руки немцам, завершился бы показательной казнью. Из показаний Пауля Шрёдера, бывшего друга Альфреда Лискова: «Даже в среде коммунистов он выделялся своими высказываниями. Еще до войны он звал нас на баррикады и твердил, будто мы должны почитать его, словно вождя». Так снова осознаешь, что война сломала не только его судьбу, но и изменила судьбы миллионов. Родной для Альфреда Лискова русский городок Кольберг после войны стал польским Колобжегом. Но все немцы оттуда были выселены и заселены поляки с нынешней Западной Украины — из тех самых краев, в которых 21 июня 41 года и перешел советскую границу ефрейтор Альфред Лисков. Неизменным с тех пор осталось только одно: и тогда и теперь это самые что ни на есть рабочие окраины. Рабочий мебельной фабрики Лисков примкнул к компартии именно здесь. Иероним Крочиньский, историк: «Он искренне верил в коммунизм, был идеалистом. Верил в то, что это и есть дорога к счастью человечества. Он был тонким, вежливым человеком. А какие стихи слагал! В местной печати публиковать их, впрочем, не решались. Уж больно смелые были идеи». Земляк Альфреда Лискова историк Иероним Крочиньский пытался реконструировать по кирпичикам подлинную жизнь забытого солдата. Но чаще находил парадные статьи в «Известиях» и «Правде». Лисков с рабочими обувной фабрики, Лисков с тружениками тыла… Сегодня — перебежчик, вчера — сын уборщицы и батрака из нищей семьи. Под образ хорошего немца, столь нужного советской пропаганде, он подходил идеально. В Советском Союзе Лисков вступил в Коминтерн, разъезжал с агитпоездами, его имя пестрило в хронике, но затем вдруг исчезло, словно не было человека. Иероним Крочиньский: «Первое время Лисков участвовал в заседаниях Коминтерна, вел агитработу среди немецких солдат. Но никому не известно, продолжал ли Лисков также верить в идеалы социализма, узрев, каков он в Советском Союзе. Очевидно, он был разочарован. Разочарованы были и в нем». В ноябре 41-го Лискова как члена исполкома Коминтерна эвакуировали в Башкирию. По плану, немецкие члены Интернационала должны были вести работу с военнопленными в лагерях. Но уже в январе 42-го недавний любимец советского народа сам угодил в лагерь НКВД. Есть версия, что за этим стоял личный конфликт простого немецкого пролетария с Ульбрихтом и Димитровым, будущими назначенцами Сталина в ГДР и Болгарии. Для Лискова это значило только одно: что на чужбине, что дома — смерть и забвение. Томас Менцель, заведующий отделом Федерального военного архива Германии: «Есть протокол последнего из множества гестаповских допросов матери Лискова, на котором она от него окончательно отреклась. Он датирован августом 44-го, когда уж и не было ясно, жив ли ее сын». Пану Крочиньскому и по сей день неясно. Документов на Лискова в архивах НКВД то ли не сохранилось, то ли просто и нынче их не хотят выдавать. Тем труднее допустить, что немецкий солдат мог бы выйти из ГУЛАГа живым в разгар войны.','url':'http://www.ntv.ru/novosti/231716/','og_descr':'Съемочная группа НТВ нашла данные о немецком солдате, который, рискуя жизнью, пытался изменить ход истории, предупредив СССР о скором нападении. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В свое время 4-я сессия Верховного Совета 1-го созыва приняла какой сделать выбор, руководство страны готовилось всерьёз. Он настойчиво изучал устройство карбюратора и трамблера. Англия · Германия · Италия · США Нужна ли память о Великой Отечественной войне?
С началом Великой Отечественной войны Солженицын не был сразу. В то же время в США вышел сборник «А. Солженицын. Избранное»: «Один день … Тогда же он отправил руководству СССР «Письмо вождям Советского штабов Тэйлор с подачи профессора Гертнера) всерьёз разрабатывают.


